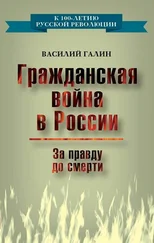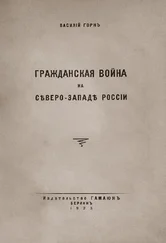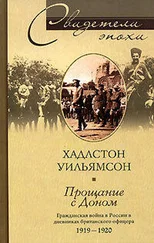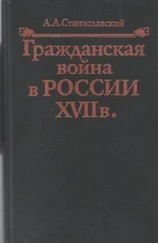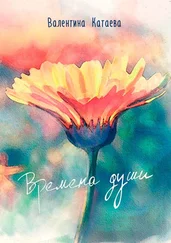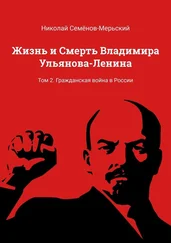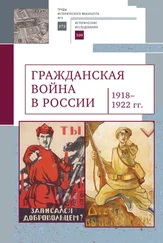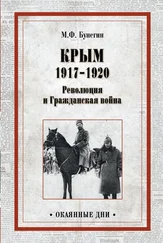…И племя Иуды не дремлет,
шатает основы твои,
народному стону не внемлет
и чтит лишь законы свои.
Так что ж! Неужели же силы,
чтоб снять этот тягостный гнет,
чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдет?
А в 13 году (Катаеву недалеко до пятнадцати) тот же «Одесский вестник» помещает его новые стихи антиреволюционного содержания:
Привет Союзу русского народа
в день семилетия его.
Привет тебе, привет,
привет, Союз родимый,
ты твердою рукой
поток неудержимый,
поток народных смут
сдержал. И тяжкий путь
готовила судьба
сынам твоим бесстрашным,
но твердо ты стоял
пред натиском ужасным,
храня в душе священный идеал...
Взошла для нас заря.
Колени преклоняя
и в любящей душе
молитву сотворяя:
Храни Господь
Россию и царя.
В последней строфе пропущено сказуемое; на фоне охвативших автора и редакцию чувств они этого не заметили.
По случаю столетия войны 1812 Катаев сочинил и огласил на собрании патриотическое стихотворение с финалом: «Пока в России дух народный огнем пылающим горит, // ее никто не победит!» Стихотворение, впрочем, не получило успеха.
По свидетельствам и воспоминаниям самых разных людей – от Деникина до Маяковского – образованные русские подростки формировали тогда свое мировоззрение в 15-18 летнем возрасте, заново (и обычно навсегда) определяя тогда свое отношение к «вечным вопросам». Не был исключением и Катаев. Уважение к справедливости и хранящей ее государственности, отторжение политического террора и революционного насильничества, а также их оправдания и одобрения он сохранил навсегда; вражду к соответствующим традициям значительной части русского еврейства и русской интеллигенции – тоже (неимоверное количество евреев в ближайшем окружении Катаева, его евреи-друзья, жена и зять тут ничему не противоречат и никаких принципиальных перемен не знаменуют, так как в самой по себе национальности данного лица Катаев и до перелома не видел ничего умаляющего его личные достоинства и права, а с революционными евреями по доброй воле не якшался и после); но вот горнее, Бог как воплощение приоритета этого самого «горнего» перед неискоренимо низким «мирским», царь как самодержавный помазанник Божий, Союз Русского Народа и т.д. для него перестали существовать как нечто позитивное раз и навсегда. Уже в его текстах 1914-1915 года нет ничего, что выходило бы из круга сугубо «земных», условных и относительных ценностей, да так оно и осталось. Подробностей этого перелома, в отличие от его последствий , мы точно не знаем; Деникин о подобных вещах писал, вспоминая свое реальное училище: «Больше всего, страстнее всего нас занимал вопрос религиозный, не вероисповедный, а именно религиозный – о бытии Бога. Бессонные ночи, подлинные душевные муки, страстные споры, чтение Библии наряду с Ренаном и другой безбожной литературой… Я лично прошел все стадии колебаний и сомнений и в одну ночь (в 7 классе), буквально в одну ночь пришел к окончательному и бесповоротному решению…»
Катаев тоже пришел – правда, не за одну ночь, а в несколько этапов (ниже им будет посвящен особый экскурс) к окончательному и бесповоротному решению. Только противоположному. Перед смертью, пройдя смерть клиническую и выйдя из нее, он все рвался домой – записать по личному опыту, что, умирая, человек с какого-то момента галлюцинирует и вовсе не испытывает страха, так что никакого удушающего «погружения в небытие» для него с некоторого момента субъективно не происходит; Катаев все хотел это записать и опубликовать для массового ознакомления – чтобы люди узнали и перестали бояться мига смерти: в самом конце все будет хорошо, в миг исчезновение человек входит в хорошем, даже эйфорическом расположении духа, и оно так его никогда и не покидает. За две с лишним тысячи лет до Катаева то же самое формулировалось не так наглядно, но более ярко: «Когда я есть, смерти нет; когда смерть есть, нет меня».
…Впрочем, введение полного гражданского равенства конфессий и сословий он и потом не одобрял – власть черни… В 1919 он подарил Бунину зажигательное стекло при сочиненной им шуточной надписи, воспроизведенной в «Траве забвения»: «…В дни революций и тревоги и уравнения в правах одни языческие боги еще царили в небесах. Но вот, благодаренье небу, настала очередь богам. Довольно Вы служили Фебу, пускай же Феб послужит Вам» – «уравнение в правах» стоит в одном ряду с революцией и тревогами и является единственным конкретным примером этих бедственных потрясений. «Сильны должны быть огорчения!», как писал Ермолов о Барклае
Читать дальше