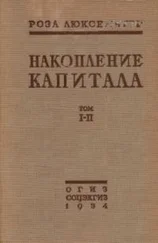Для поколения 40-х и 50-х годов общественные условия, как целое, относились к области стихийного, незыблемого. Не знавшая сопротивления среда умела только гнуться под карающими ударами властей, – как под напором вихря, выжидая, когда пройдет непогода, надеясь, что она пройдет. Да, – говорит Короленко, – это было цельное настроение, род устойчивого равновесия совести. Внутренние их устои и не колебались анализом, и честные люди того времени не знали глубокого душевного разлада, вытекающего из сознания личной ответственности за «весь порядок вещей». Только такое миросозерцание является, по его мнению, подлинной основой правления божьей милостью, – только пока еще незыблемо держится такое миросозерцание – велика и сила абсолютизма.
Было бы ошибкой считать обрисованную Короленко в таких чертах психологию исключительно русской или непременно связанной с порой крепостничества. И при самых разнообразных политических и социальных формах правления может существовать такое настроение общества, чуждое грызущего самоанализа и внутреннего раздвоения, когда люди ощущают «установленную богом зависимость», как нечто стихийное, и приемлют исторические условия, как решения небесной воли, за которые люди столь же неответственны, как за то, что молния убивает иногда невинного ребенка. Такое настроение наблюдается даже и при современных условиях; особенно же полно дало оно себя знать в психологии немецкого общества в течение всего времени мировой войны.
В России такое «незыблемое равновесие совести» стало расшатываться в широких кругах интеллигенции уже в шестидесятых годах. Короленко очень наглядно изображает духовный переворот русского общества того времени и показывает, как именно его поколение преодолело «крепостническую» психологию и охвачено было новым течением. «Особенностью этого течения и был разъедающий, мучительный, но вместе с тем и творческий дух общественной ответственности».
Пробуждение в русском обществе высокого гражданского духа, подточившего глубочайшие психологические корни абсолютизма, является заслугой русской литературы. Она со своей стороны никогда, с самого начала своей деятельности, с начала девятнадцатого столетия, не отрекалась от общественной ответственности, не забывала разъедающий, мучительный дух общественной критики.
С той поры, когда она в лице Пушкина и Лермонтова развернула с неподражаемым блеском свое знамя перед обществом, русская литература считала своим основным жизненным принципом борьбу против тьмы, некультурности и гнета. Она сотрясала с отчаянной силой общественные политические оковы, натирала себе раны о них и честно уплачивала цену битв кровью своего сердца.
Ни в какой другой стране не наблюдается такой поразительной краткости жизни самых выдающихся писателей, как в России. Они умирали и чахли дюжинами в цветущем, почти в юношеском возрасте, в 25, 27 лет, или, в лучшем случае, едва переступали за предел 40 лет и умирали на виселице, были жертвами прямого или прикрытого дуэлью самоубийства, погибали от сумасшествия, от преждевременного истощения. Благородный певец свободы Рылеев был казнен в 1826 году, как вождь декабристов. Пушкин и Лермонтов, гениальные творцы русской поэзии, погибли оба на дуэли, и жертвами ранней смерти был весь их круг расцветающих талантов, как, например, основатель литературной критики и поборник гегельянства в России, Белинский, так же как Добролюбов. Ранней смертью умер превосходный, нежный поэт – Кольцов (многие его песни вросли, как одичавшие садовые цветы в русскую народную поэзию), а также творец русской комедии – Грибоедов и выше его стоящий, преемник его, Гоголь. Рано умерли в более близкое к нам время два блестящих беллетриста: Гаршин и Чехов. Другие томились десятки лет в тюрьме, на каторге, в ссылке – как основатель русской журналистики Новиков, как вождь декабристов Бестужев, князь Одоевский, Александр Герцен, как Достоевский, Чернышевский, Шевченко, Короленко.
Тургенев сказал как-то, что он впервые в жизни насладился полностью пением жаворонка, услышав его где-то под Берлином. Это мимолетное замечание кажется мне очень характерным. Жаворонки поют в России столь же прекрасно, как и в Германии. Огромная русская империя таит в себе так много красот и столь разнообразных, что всякая чуткая, поэтичная душа находит на каждом шагу случай всецело отдаться наслаждению природой. Но Тургенев не мог безмятежно созерцать красоту природы у себя на родине. Ему мешал мучительный разлад общественной жизни, мешало постоянное тягостное чувство ответственности за вопиющие общественные и политические условия, – то неотступно гложущее чувство, которое не допускает ни минуты самозабвения. Лишь за границей, когда тысячи гнетущих картин его родины остались позади и он очутился в условиях чуждой ему страны, – а благоустроенная внешность и материальная культура Запада издавна вызвали наивное преклонение у русских, – русский художник смог беззаботно, полной грудью насладиться природой.
Читать дальше