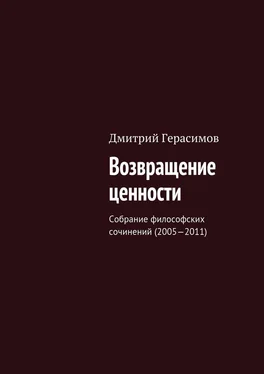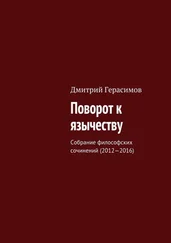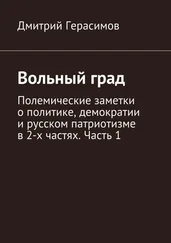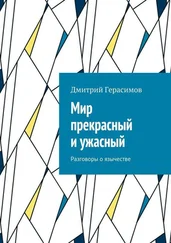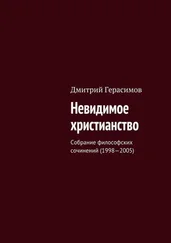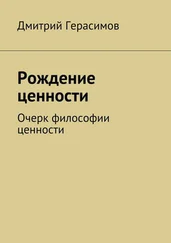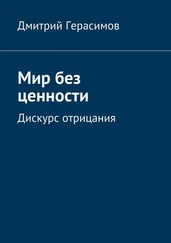Противники монастырского «стяжания» все еще несли в себе анархически-внегосударственную, «гражданскую» (как сказали бы теперь) энергию русского исторического «антитезиса», отстаивая непротиворечивое соединение природных сил народа и наднациональной, вселенской религиозности (хотя и окрашенной совершенно по-гречески – в мистико-аскетические цвета, но, в отличие от греческого православия, по-евангельски и по-славянски человечной, терпимой). Напротив, иосифляне – сторонники «христианства жестокого, почти садического» 88 88 Бердяев Н. А. Русская идея. Судьба России. М.: ЗАО «СВАРОГ и К», 1997. С. 9.
, по словам Н. А. Бердяева, мыслили это соединение совсем в духе византинизма – в смысле исключительного тождества нации и религии, в смысле государственной религиозности, однако с явно нерасположенным к грекам выводом о вероисповедном приоритете русской национальной церкви в деле вселенского христианского просвещения и, следовательно, исключительном положении русского государства в мировой истории. Таким образом, оба «направления» в русской церкви – каждое по своему – частично противопоставляли себя аутентичному греческому православию, но иосифлянство в большей мере реализовывало главный «тезис» русской истории, а потому ему и суждено было победить. В нем совершалась тенденция, четко обозначившая будущий русский «синтез» – острая национализация церкви и церковного сознания, в византийском духе «обраставших» миром и собственным политическим значением.
Не случайно к концу XV в. (т.е. ко времени освобождения от татар и одновременно с ним) на Руси начинает стремительно распространяться значительное еретическое движение, охватившее самые разные слои русского общества, служившее естественной (хотя и весьма упрощенной) формой внутренней оппозиции вновь обретавшей силу в русской церкви духовно репрессивной исключительности. Ересь отчасти брала на себя ту же функцию, что в первые века христианизации исполняло ушедшее в «партизанское подполье» славянское язычество. Типичная для возрожденческой Европы и занесенная на Русь через свободолюбивых, «удельных» новгородцев, ересь «жидовствующих» представляла собой «джентельменский набор» из полуиудаизма (через ветхозаветные особенности греческого православия подкапывавшегося под христианство вообще), популярного в светских кругах оккультизма, магии, астрологии и новомодного «содомского греха» (очень распространенного в Московской Руси и приписываемого даже митрополиту Зосиме 89 89 Карташев А. В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1: Очерки по истории русской церкви. М.: ТЕРРА, 1992. С. 387.
). Для понимания ереси принципиально важное значение имеет тот факт, что у ереси не было бы ни единого шанса на успех без самого православия, без того идейно-богословского, культурного и морального фона, который создавался на Руси греческим христианством. К числу чисто «местных» предпосылок возникновения ереси следует отнести колоссальную умственную отсталость, безграмотность тогдашнего русского общества – его «малокнижность», начетничество и просто невежество 90 90 Там же. С. 502.
; иначе говоря, веками культивировавшееся в качестве достоинства «истинно православного» неумение рационально мыслить , и как следствие, рационально усвоить себе христианство. Поскольку для борьбы с ересью (как и для церковного самоуправления) не хватало ни теологических познаний, ни опыта самостоятельной мысли, с Афона были вновь (как и в первые века христианизации) специально выписаны ученые греки, среди которых был и выдающийся христианский проповедник, европейски образованный Максим Грек (Триволис), чей недолгий – меньше 4-х лет (1518—1521) – умственный триумф на Руси, в отличие от многих его предшественников, завершился отлучением от церкви и почти тридцатью годами тюремно-монастырского заточения. Греков действительно больше не жаловали на Руси, хотя в них по-прежнему остро нуждались.
Появление организованной ереси и жестокая борьба с нею (совсем в духе католической инквизиции), незаметно переходившая в борьбу со всяким инакомыслием, свидетельствовали о том, что удостоившийся высокого «вселенского предназначения», русский народ впервые сам для себя становился объектом репрессивного подавления собственной прирожденности . Если до этого момента церковь все-таки больше ассоциировалась с «ромеями» и боярской верхушкой Руси, то теперь (после того, как с конца XV в. Москва добилась права самостоятельно утверждать митрополитов из русских ) она становилась в собственном смысле «своей», «русской». Очевидно, только с этого момента (рубежный XVI век) можно говорить о начавшемся процессе «воцерковления» русского природного самосознания. Воспроизведение абсолютно чуждого христианству, ветхозаветного алгоритма мысли в самом характере «воцерковления», в натуральном библейском смысле означавшем необходимость «обрезания отсохших ветвей», окончательно сближало русскую религиозность не только с византинизмом, но и с его библейским аналогом, на что, в частности, любил указывать Н. А. Бердяев, подчеркивавший почти полную тождественность русского и еврейского мессианских сознаний: «По поляризованности и противоречивости русский народ можно сравнить лишь с народом еврейским. И не случайно именно у этих народов сильно мессианское сознание» 91 91 Бердяев Н. А. Русская идея. Судьба России. М.: ЗАО «СВАРОГ и К», 1997. С. 4.
. Однако дальше всех, дальше даже славянофилов пошел все-таки Н. Я. Данилевский, утверждавший, что русским, удостоившимся исторического жребия «быть вместе с Греками славными хранителями живого предания религиозной истины», суждено «быть продолжателями великого дела, выпавшего на долю Израиля и Византии, – быть народами богоизбранными» 92 92 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому (Издание Н. Страхова). СПб.: Типография брат. Пантелеевых, 1895. С. 525.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу