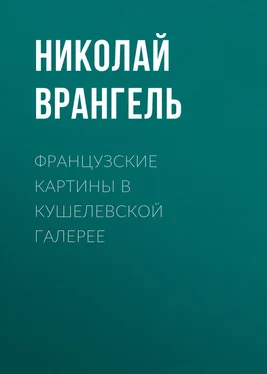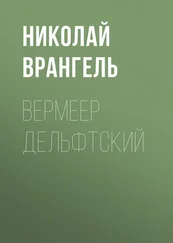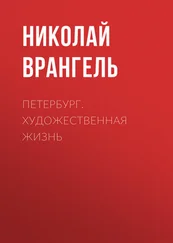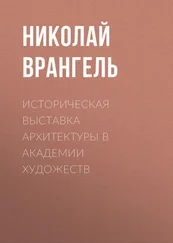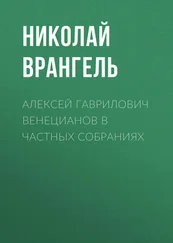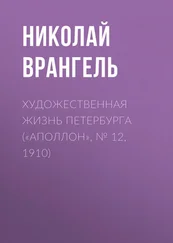Николай Врангель
Французские картины в кушелевской галерее
Всегда с некоторым опозданием следовало русское искусство За иностранным. Мне случилось видеть картину пятидесятых годов XIX столетия, где генералы Николая Павловича, в мундирах, при эполетах, представлены на золотом фоне, как будто святые тречентистов в Италии и Германии. Этот пример очень характерен для всего провинциального уклада русской культуры и искусства в особенности.
Все те новейшие течения, что так жадно воспринимаются в России – часто только запоздалое эхо того, что творится в Европе.
В эпоху, когда Федотов, сто лет отстав от Гогарта, писал очень мило, но все же весьма наивно петербургских чиновников, во Франции уже появились картины Манэ, которые до сих пор считаются у нас чуть ли не «декадентством». И не надо забывать, что Сезанн, Ренуар и Дега, которые у нас все еще не поняты, составляют уже теперь традиционное прошлое французского искусства. Еще больший курьез приключился с так называемой барбизонской школой. В то время как «русские самородки», переняв кое что у немецких нравоучителей, захотели создать яко бы самобытное направление в живописи, изображая пьяных исправников, угнетающих бедных крестьян – во Франции работали дивные мастера, открывшие новые живописные каноны. Французские художники увидели новую, доселе неведомую, страну и открыли ее в самой Франции. До Курбэ, Коро, Добиньи, Дюпре и Руссо во французском искусстве не было пейзажа.
В XVII столетии Пуссэн мечтал не о красотах родной страны, не о интимной ласковости французской природы, а о другом мире далекой сказки, что приоткрывал свою завесу для него. Причесанные и подстриженные сады на французских картинах XVIII века играют уже иную, не самостоятельную, а только украшающую, бутафорскую роль. Это как бы парадные и восхитительные платья, что шили портные того времени. Это та рамка, которая была нужна и необходима для усталых и избалованных любезников, что смеючись притворялись пейзанами. И природа Гюбер Робера – не природа Франции, а грустная мелодия угасающего века, плачущая песнь, что звенит невнятно и в которой не расслышишь ни смысла, ни слов. Руины Робера это признание своего бессилия, – невозможность прямо смотреть на жизнь. Вот почему такой бодрой свежестью веет от всех картин барбизонской школы.
В лесах Фонтенбло колония художников жила как на необитаемом острове, и в своем маленьком царстве они пристально приглядывались ко всему. Каждое дерево, каждый кустик, каждая травка приобрели самостоятельный характер и Значение.
Это новое «лицо природы», веками задернутое непроглядным флером, вдруг раскрылось во всей своей красоте. Деревья зашумели кудрявыми головами, закачалися, замохнатились, заболтали на разных лесных языках. Словно великаны рядами выстроились стволы, как оплот зеленолиственного мира. Забегали, зашептались, зажурчали, заискрились прихотливые ручейки и лесные речки. Громоздились облака, как угрюмые караваны, сизо-серые, по бороздам гневного неба. В ласковой солнечности голубого полуденного жара купались, и плыли, и нежились как чайки белые, как дым легкие, облака. Вся природа вдруг сделалась чем то таинственным, и нужным, новым откровеньем и новым миром и непонятно, как столько веков не видал ее человек? Слепые как кроты, словно совы в ясный день, незрячие столько времени были художники. И тем большую радость испытали они, когда научились видеть. Тихие, серые, как жемчуга, сумерки угадал Коро и явил их в пепельно-дымных туманных пейзажах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.