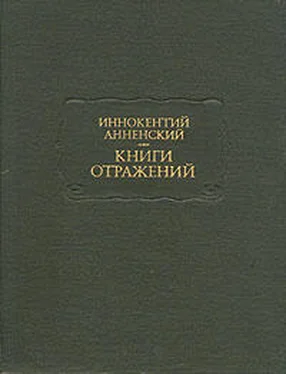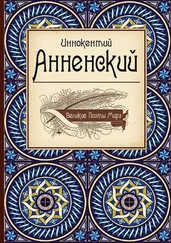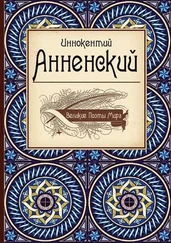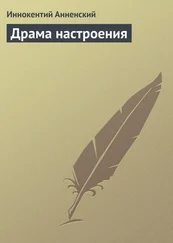Сухой, костистый нос, сильно выступивший вперед, «наподобие меча», две ясно обозначившихся выпуклости на лбу над глазными впадинами, насмешливая складка румяных мясистых губ; немного короткий и слегка раздвоенный подбородок, который так странно сближает кабинетного работника с обитателем монашеской кельи, символизируя, вероятно, общую им объединенность жизни и большую дозу терпения, — и, наконец, роскошная аполлоновская шевелюра, но только отступившая от высоко обнажившегося лба с его продолжением — таков был портрет, снятый с автора «Эринний» в год их постановки.
И, может быть, уместно не упускать его из вида при нижеследующем разборе трагедии.
Леконт де Лиль написал свою трагедию на сюжет распространенного мифа о том, как Орест убил мать за то, что та убила его отца. Когда-то Эсхил за четыре с половиною века до р. Хр. дал этой сказке форму трагедии и значение, которому суждено было сделаться мировым .
Кому не бросалось сходство Гамлета с Орестом по основному рисунку их трагедий? Из французов Леконт де Лиль не был первым подражателем Эсхила, но едва ли его трагедия осталась не единственной по художественной независимости трагика.
Леконт де Лиль, конечно, считался с нашей измененной чувствительностью, а также новыми условиями театрального дела, но чопорность, риторика и жеманство, к которым издавна приучились французские зрители классических пьес, мало принимались им в расчет.
Пьеса состоит из двух частей, названных первая — «Клитемнестрой», а вторая — «Орестом». Декорация первой — наружный портик дворца Пелопидов. Массивная архитектура его конических и приземистых колонн без базы сразу же показывает, что мы вышли из пределов условного греко-римского портика старой классической сцены.
Чуть брезжит свет, и сцена вся полна Эринний. Это — богини мщения. Они большие, бледные, худые, в длинных белых платьях, и небрежно распущенные волосы их веют и треплются по лицам и спинам.
Солнце рассеивает странную толпу, а взамен ее приходит откуда-то из глубины сцены хор стариков с посохами. Здесь поэт, отдавший дань археологии, захотел идти уже своим путем. У Эсхила песни и медленные танцы стариков заполняли еще драму, и действие выступало из нее, лишь как выступает узор из экзотической колонны. Новый поэт дал решительное предпочтение слову перед музыкой, лицу — перед хоровым началом и акту — перед антрактом. А его пьеса прерывается лишь затем, чтобы дать зрителям полюбоваться фресками театральных лестниц.
Хор, как только он вступил на сцену, так по традиции делился на два полухория. Но все время затем старики оставались молчаливыми зрителями, и участие их к происходящему вокруг выражалось только мимически.
Впрочем, отчасти за них должны были говорить резонеры Талтибий и Еврибат, [53] Так назвались в «Илиаде» герольды Агамемнона.
которых было тоже два — по числу полухорий.
У Эсхила начало действия еще до вступления хора — принадлежало ночному сторожу на вышке. В словах этого человека слышалась давняя и печальная усталость, которая тут же, впрочем, сменялась радостью от показавшегося вдали огонька.
Дело в том, что по условию аргосцы должны были, как только будет взята Троя, подать сигнал (в темноте огненный) на ближайший от них пункт, откуда, по заранее намеченному плану, знаки шли дальше, и в самое короткое время Илион сообщал радостную весть в Аргос, столицу Агамемнона.
Не таково начало новой драмы. Ее открывают резонеры, в которых тонкий художник сразу же намечает, однако, и различные типы людей. Один — Талтибий — обладает более живой фантазией и свободной речью, другой — Еврибат осторожнее и политичное.
Старики делятся между собой тревожными предчувствиями, сквозь которые просвечивает и их большое недовольство происходящим вокруг. Молитвы о возвращении царя и войска — вот их единственная поддержка.
Сцена прерывается дозорщиком, который возвещает о радостном сигнале. Но стариков трудно уверить, и если более живой Талтибий борется с невольно охватившей его радостью, то Еврибат благоразумно подыскивает объяснение ошибки. Между тем на сцену показывается Клитемнестра со свитой, и, знаком отпуская раба, подтверждает его известие. Лишняя черточка, вы скажете, это отпускание раба, пережиток античной сцены, где актер, игравший дозорщика, должен был успеть переодеться для роли Агамемнона, но художник мудро пользуется и этим пережитком. Да и точно, зачем в таком деле лишние уши, особенно рабские? Мало ли какое сорвется слово. А старики, ведь это — все свои, вельможи.
Читать дальше