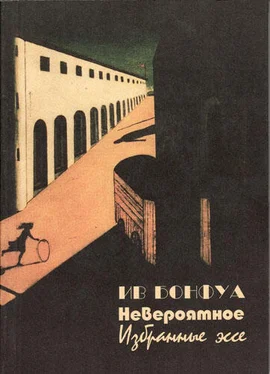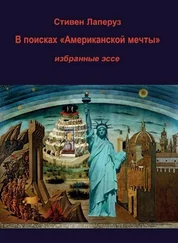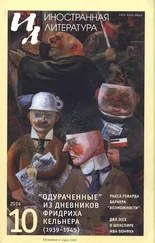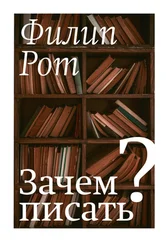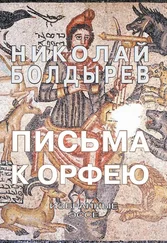«Такое надгробие человек воздвиг {9} 9 « Такое надгробие человек воздвиг… » — см. «Путешествие из Парижа в Иерусалим» (Chateaubriand F. Œuvres, 1969, vol.2, p. 1142). Шатобриан здесь возражает Боссюэ, утверждавшему, что пирамиды свидетельствуют о ничтожестве человека.
вовсе не из сознания своего ничтожества, — писал Шатобриан в Египте, — но из инстинктивного ощущения, что он бессмертен». Глядя на громадные могильные памятники Египта, так высоко вознесшиеся в своем нерушимом спокойствии и тишине, прочные и в то же время изящные, таящие в темной глубине, где нарисовано столько прекрасных лиц и знаков, осознанное утверждение жизни, — глядя на памятники, не знающие других богов, нежели изображения, возникшие из соединения красок и камней, эти почти ожившие формы, я прихожу к выводу: бессмертие, которое они несут в себе, — это то же бессмертие, о котором говорил я. Кто верит мечте о воскресении, тот, подобно первым христианам, оставляет на земле лишь неясный след какого-то перехода.
Своим камнем Египет утверждает, что единственно возможное будущее заключено в нашем, вещественном мире. То же хотят сказать и саркофаги VI века в Равенне. О том же — в городах, где вход и выход означены рядами могил (они еще существуют на земле, эти благословенные города), — говорит и народ умерших.
Я не забыл о моем вопросе. Почему понятийная мысль, этот практический идеализм, отворачивается от надгробий? Теперь я могу ответить. Все дело в том, что надгробный камень — это восстающая свобода.
Мы могли бы развеивать прах умерших по ветру, подчиняться воле природы, довершать разрушение того, что перестало существовать. Но в могильном памятнике, в этом открытом явлении смерти, одним и тем же жестом удается и сказать об исчезновении, отсутствии, и сохранить некую жизнь. Сказать, что присутствие неуничтожимо, вечно. Утверждение такого рода, двойственное по своей сути, чуждо понятию. Какое понятие могло бы нести в себе и этику, и свободу?
Вот камень — великий служитель, без которого все погибло бы, захлебнувшись горем и ужасом. Вот жизнь, которая не страшится смерти {10} 10 Вот жизнь, которая не страшится смерти — ср. в предисловии к «Феноменологии духа»: «…в том, что связанное и действительное только в своей связи с другим приобретает собственное наличное бытие и обособленную свободу, — в этом проявляется огромная сила негативного; это — энергия мышления, чистого «я». Смерть, если мы так назовем упомянутую негативность, есть самое ужасное, и для того, чтобы удержать мертвое, требуется величайшая сила. Бессильная красота ненавидит рассудок, потому что ои от нее требует того, к чему она не способна. Но не та жизнь, которая страииггея смерти и только бережет себя от разрушения, а та. которая претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа. Он достигает своей истинности, только обретая себя самого в абсолютной разорванности». (Г.В.Ф. Гегель. «Сочинения», т.4, с. 17; пер. Г. Шпета). Эти же гегелевские строки (предпоследнее предложение в нашей цитате) Бонфуа избрал эпиграфом к книге «О движении и неподвижности Дувы».
(тут я пародирую Гегеля) и вновь обретает себя в ней самой. Чтобы постигнуть этот камень и эту жизнь, нужен иной язык, чем у понятия, иная вера. Понятие перед ними умолкает, как разум при появлении надежды.
«Цветы зла» [2] Перевод Б.Дубина.
{11} 11 Предисловие к стихотворному разделу в «Собрании сочинений» Бодлера, выпушенном Клубом образцовой книги (1955).
I
Передо мной — главная книга нашей поэзии, «Цветы зла». Ни в какой другой истина слова, высшая форма истинного, не представала с такой ясностью. Для меня эта истина — настоящий свет. Белые, черные, серые оттенки Гамлета Делакруа {12} 12 «…оттенки Гамлета Делакруа» — графическим иллюстрациям Делакруа к трагедии Шекспира Бонфуа позднее посвятил эссе «Цвет под покровом чернил», опубликованное в каталоге выставки «Делакруа и Гамлет» (1993) и вошедшее в сборник статей «Рисунок, цвет и свет» (1995).
, а за ними — какой-то немыслимый, запредельный багрянец. Истина слова — за пределами любой формулы. Она — сама жизнь духа, и уже не на странице, а в реальности. Первозданная, вышедшая из глубин души, не совпадающая со смыслом слов и превосходящая силой любые слова.
Но, кажется, именно истина бодлеровского слова и удерживает от разговоров о Бодлере. Что сказать о нем, кроме пустяков, неточностей, а то и лжи? Самая проницательная критика отступается и признает абсолютность им созданного. Самое воинственное недоброжелательство бьет здесь мимо цели и только выставляет себя на смех. А измученного Бодлера уместней и вовсе оставить в покое. Он искал всеобщего. И имеет полное право раствориться в нем, словно музыка, исчезнуть в тумане.
Читать дальше