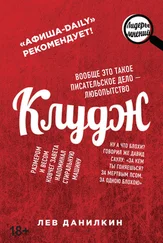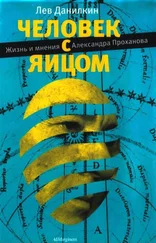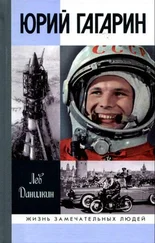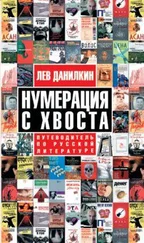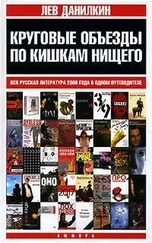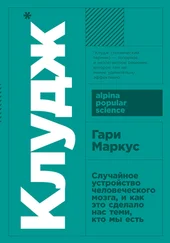Возможность реализации именно подобного сценария сохранялась довольно долго; еще году в 2002-м совершенно не ясно было, в какой ряд выстроятся силовые линии, что будет In, а что — Out, что больше похоже на мейнстрим — «Гопники» Владимира Козлова, натуралистичное свидетельство очевидца о серых, как застиранное белье, буднях провинциальных гарлемов, или «Поцелуй Арлекина» Олега Постнова, витиеватая литературная фантазия — и одновременно замечательная по точности стилизация — с претензией на то, чтобы стать альтернативной историей отечественной словесности. Это в 2009-м ясно, что перспективы условно «постновской» (отрошенковской, черчесовской) орнаментальной прозы крайне далеки от лучезарных, что всякого рода «литература» как тема для литературы очень скоро маргинализуется, что место «вилле Бель-летра» (где разворачивается действие одноименного романа Алана Черчесова, в котором несколько писателей «расследуют» убийство анаграммированной «литературы») будет на дальних выселках; однако еще в первую половину нулевых антре всякой «персоны вне достоверности» приветствовалось аплодисментами и сопровождалось здравицами.
Тогда же — ровно десять лет назад — заявление персонажа романа Михаила Шишкина «Взятие Измаила» о том, что «мы — лишь форма существования слов, язык является одновременно творцом и телом всего сущего», казалось таким же естественным, как «Волга впадает в Каспийское море»; однако чем больше проходит времени, тем более эпатажным оно представляется. Это что же, получается, вместо живых людей у него — язык? Он что же, верует в приоритет языка над жизнью? Примерно такое же впечатление произвело на Ивана Бездомного заявление, что Бог существует. Поклонение «языку» как чему-то супрематическому, приоритетному и самоценному стало восприниматься скорее как род эскапизма, способ экранироваться от реальной жизни со всеми ее конфликтами, враньем и противоречиями; ненаказуемо, но все-таки уже несколько странно.
Стилизации, замечательные своей точностью? О том, какая пропасть в этом смысле лежит между двумя эпохами, можно судить по тому, как принимали, например, в 1996-м «Хоровод» Антона Уткина — и, например, в 2008-м — «Фавна на берегу Томи» Станислава Буркина, оба текста — замечательные стилизации, смысл которых… да нет никакого смысла, просто прокатиться в стилистической машине времени. «Хоровод» взбаламутил толстожурнальное болото, вошел в шорт-лист «Русского Букера» и спровоцировал лавину толкований — тогда как буркинский «Фавн» ничего, кроме недоумения и уважения к несомненному остроумию автора, не вызывает — как реагировать на фантазии такого рода? Что хотел сказать автор? Ну ладно еще когда в «жанре» — ретро-, например, детектив у Бориса Акунина, Антона Чижа или Леонида Юзефовича, для передачи лингвистического колорита эпохи, — а просто так, с высунутым языком, имитировать «старинный дискурс»?
Тем не менее вряд ли имеет смысл забираться на ящик из-под мыла и с колокольной торжественностью возвещать что-нибудь вроде «провала постмодернистского проекта», «тотальной маргинализации набоковско-сашесоколовской линии русской литературы» и проч.; теоретически заявления такого рода можно подтвердить примерами (особенно если сослаться на «Преподавателя симметрии» Андрея Битова), однако если не передергивать, то невозможно не признать, что нулевые дали и несколько очень крупных образцов модернистской и постмодернистской прозы, основополагающих романов для истории литературы последнего десятилетия: «Взятие Измаила» Михаила Шишкина, «2017» Ольги Славниковой, «Аномалия Камлаева» Сергея Самсонова. Особенно любопытным — даже по прошествии многих лет — остается «Взятие Измаила». Шишкин сумел выделить стилистические матрицы, которые за все время существования языка отложились в письменной литературе и фольклоре, однако составлением энциклопедии стилистик не ограничился. Словно генетик из научно-фантастического романа, он как будто принялся заражать стилистическими бактериями события из собственной биографии, и из пробирки на свет полезли сюжетно-стилистические двойники автора, которые и населили роман, действительно беспрецедентный по воздействию (Букеровская премия — 2000, кстати).
Однако если в 90-е «стилисты высшего эшелона» составляли несомненную элиту литературы, своего рода олимп, то теперь это скорее клуб чудаков-аристократов; даже не литературное «направление».
Но странно — при том, что невидимая-рука-рынка требовала исключительно «жанр», все пошло не так. Теоретически из мира дефицита детективов мы должны были попасть в мир изобилия детективов. Этого не случилось — хорошего русского детектива, кроме Акунина, так и не сыщешь; да и Акунина-то вот уже много лет сложно выдавать за эталонного автора. Тлевший все 90-е конфликт «высокой» и массовой литературы, очевидно, должен был привести к победе последней и развалу традиционной иерархии — но ничего подобного не произошло. В рамках массовой литературы за последнее десятилетие были созданы несколько выдающихся в своем роде произведений: исторические романы Леонида Юзефовича («Казароза», «Костюм Арлекина», «Дом свиданий», «Князь ветра») и Алексея Иванова («Сердце Пармы» и «Золото бунта»), дамские романы Акулины Парфеновой («Мочалкин блюз», «Клуб худеющих стерв»), фантастические романы Олега Курылева, Марины и Сергея Дяченко, Олега Дивова, Святослава Логинова, Вячеслава Рыбакова и Анны Старобинец, сказочные эпопеи Вероники Кунгурцевой и Далии Трускиновской, шпионские романы Сергея Костина, ретродетективы Антона Чижа, приключенческие романы Александра Бушкова, триллер Арсена Ревазова («Одиночество-12»), однако литература в целом не трансформировалась из «рефлексивной» в «фабульную», и вообще в негласной иерархии ценностей самый никчемный бессюжетный реализм — в котором традиционно сильны русские писатели — до сих пор котируется выше, чем самая изощренная беллетристика: в смысле сочувствия критики, в смысле премиальных перспектив. Открытость рынка должна была выявить неконкурентоспособных производителей, которых естественным образом должны были заменить более качественные иностранные конкуренты; на выходе, однако, мы получили книжный магазин, в котором одна из самых продаваемых книг — сборник социально злободневной публицистики Захара Прилепина. Надо же — а ведь все так мечтали о том, «чтоб у нас наконец появилась нормальная беллетристика»; но словно бы топор какого-то Негоро лежал под компасом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу