Несмотря на такое значение устойчивых образов и видимую важность субъективного переосмысления их носителем речи, которой постоянно демонстрирует их специфику, наиболее значимой остается первичная сюжетообразующая функция образа. Устойчивые образы активно участвуют и в развитии сюжета произведения и сохранении единства последнего. Так, образ зеркала, которому, также как и образу воды придается большое значение, выполняет важную сюжетную функцию в произведении. В частности, он служит общей точкой соприкосновения двух несвязанных сюжетных эпизодов — начального, где зеркало является образом перехода в другой мир в романе о Венеции и эпизода в палаццо, где субъект высказывания отказывается отождествлять себя с романистом или героем этого плутовского романа: «На секунду закружилась голова; но, не будучи романистом, я не воспользовался возможностью и предпочел дверь» (136). Кроме того, образ зеркала служит и более сложным связующим элементом, поскольку обладает для субъекта высказывания рядом свойств, воспроизведение которых отсылает к данному образу. В том же эпизоде в палаццо темнота, мутность зеркала описывается как показатель его качества, во всяком случае, как значимое свойство. Упоминание о мутном отражении становится дополнительным узлом, служащим для связи эпизодов и образов.
Например, продолжая разговор о рассказывании как о воде, субъект высказывания замечает: «Я взялся ее процеживать потому, что она содержит отражения, в том числе и мое» (112).
Таким образом, устойчивые образы выполняют вполне утилитарную функцию в тексте — служат скрепами между отдельными сюжетными эпизодами и сохраняют тематическое единство произведения. Самостоятельное отвлеченное значение устойчивые образы обретают лишь в небольших рефлективных фрагментах произведения, и такое их использование носит скорее игровой характер. Убедиться в этом можно, обратившись к рассмотрению образа глаза в эссе «Набережная неисцелимых». Глаз в этом произведении несколько раз выступает в качестве объекта дефиниции (под дефиницией в данном случае понимается логическое установление смысла термина): «The eye is the most autonomous of our organs» (78); «… the eye, our only raw, fishlike internal organ…» (24); «The eye in this city acquires an autonomy similar to that of a tear» (35). В первом случае эта дефиниция является общей, и в переводе на русский язык получает соответствующее оформление: «Глаз — наиболее самостоятельный из наших органов» (171). Во втором случае дефиниция облекается в форму приложения и поэтому обладает едва ли не большей обязательностью, чем в первом примере: «… глаза, наш единственный сырой, рыбоподобный орган…» (117). Верность этой художественной дефиниции подтверждается центральным образом этого пассажа «… глаза… в самом деле купаются…». В третьем случае мы сталкиваемся с оговоркой, пространственным ограничением даваемой дефиниции: «Глаз в этом городе [134] Здесь и далее курсив в цитатах мой. — А. М.
обретает самостоятельность, присущую слезе». Такое ограничение делает возможность использование ее «рабочих качеств» в ином контексте проблематичным (что является необходимым условием существования научной дефиниции) и обнажает ее художественную природу. Однако, вне зависимости от степени точности фиксируемого понятия, само наличие дефиниций позволяетпредполагать, что понятие глаза (eye) имеет в данном случае ряд самостоятельных отвлеченных значений, не зафиксированных на общеязыковом уровне и вступающих в особые системные отношения в мире произведения.
Важным, однако, представляется проследить, как проявляет себя в произведении образ глаза — точнее, образ глаза горчично-медового цвета — вне зависимости от его отвлеченных значений. Этот образ встречается в эссе пять раз, и в трех случаях из пяти связан с возлюбленной субъекта высказывания. Однажды он возникает при разговоре об умении видеть, наблюдательности (вне непосредственной связи с носителем, хотя и здесь можно обнаружить указание на него в сопоставлении серых и горчично-медовых глаз). В еще одном случае образ связан с другим носителем — золотой рыбкой: «Спроси простую золотую рыбку — даже не пойманную, а на свободе — как я выгляжу, она ответит: ты чудовище. И убежденность в ее голосе покажется странно знакомой, словно глаза у нее горчично-медового цвета» (156). Каждый из образов, сопутствующих рассматриваемому, стоит специального анализа. «Не пойманная золотая рыбка» — образ, в котором заложены и устремленность к идеальному, сказочному, и стремление к обладанию, и связанный с желанием обладать эгоизм. «Рыбка» противопоставляется «чудовищу», с которым носитель речи постоянно соотносит себя. «Убежденность» отсылает читателя к 45 фрагменту, где обладательница таких же (тех же) горчично-медовых глаз убеждена в несправедливости, когда обстоятельства складываются против нее. А цвет глаз оказывается соотнесен с голосом, они связаны друг с другом в едином образе. И вновь эмоциональный тон оказывается определяющим, во всех случаях безапеллятивность, зоркость субъекта и давление недружелюбного внешнего мира служат фоном для каждого эпизода. Так конкретный образ выполняет сюжетные функции, но уже не в качестве элемента, скрепляющего различные сюжетные эпизоды, а в качестве ключевого образа, необходимого для организации скрытой в произведении любовной истории. Этот сюжет не является центральным, но, указывая на один из источников вдохновения для своего эссе, все тот же роман о Венеции, И.А. Бродский пишет: «Тема обычная: любовь и измена» (123).
Читать дальше
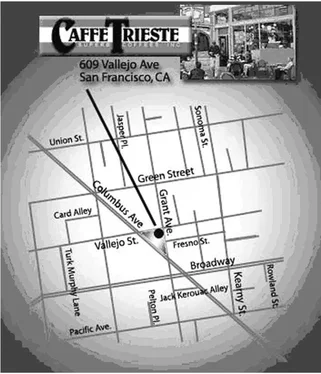
![Коллектив авторов - Кулинарная книга анархиста [Сборник рецептов]](/books/29797/kollektiv-avtorov-kulinarnaya-kniga-anarhista-sbor-thumb.webp)










