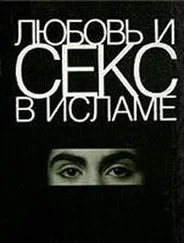Эти строки заявляют статичность, остановку во времени, которую сделал Рим. Вероятно, подразумевается то, что Рим в сознании людей остался как неподражаемый образец во всем, поэтому он замер «от счастья» — на пике своего культурного развития. В памяти людей запечатлелся именно момент детства — момент создания величайших произведений искусства и произведений мысли. Мир застывшего Рима остался миром идеалов, соотносимых с платоновским миром идей.
Но почему именно в тот момент, когда совершился символический переход к жизни смертной, когда «тело» сделало шаг вперед, лирический герой заявляет о готовности остановиться по первому зову, но уже — навсегда? Предшествующие строки оканчивались жестом одевания как включения в жизнь. Готовность «замереть» — это во многом готовность «умереть». Вообще смерть — результат процесса «одевания», поэтому в этих строках вполне можно расслышать готовность лирического субъекта к смерти.
С другой стороны, лирический сюжет стихотворения развивается как некий диалог лирического субъекта с миром. Формальное обращение «Крикни сейчас «замри»…» воспринимается как раз как одна из диалогических реплик. Это сам мир Рима предлагает лирическому субъекту замереть, как это он когда-то сделал. Но условное наклонение высказывания («…я бы тотчас замер») свидетельствует о том, что лирический субъект не может принять предложение «вечного города». Разъяснение этой неспособности будет сформулировано в третьем четверостишье.
Стихотворение вообще можно условно разделить на две части. В первой заданы главные «действующие лица» стихотворения, задана лирическая ситуация — диалог лирического субъекта с миром. В ней же прочитывается часть лирического сюжета, содержащая своего рода следствие. Во второй части разворачивается причина.
Мир состоит из наготы и складок.
В этих последних больше любви, чем в лицах.
Так и тенор в опере тем и сладок,
что исчезает навек в кулисах.
Для понимания того, что такое «нагота» и «складки», нужно обратиться к так называемому неоплатонизму Бродского [124] См. работы, в которых о нем упоминается: Лотман Ю., Лотман М. Между вещью и пустотой. Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания» // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1990; Усовик Е.Г. Семантический парадокс как основа метафизики Бродского // Поэтика Иосифа Бродского. Сборник научных трудов, Тверь, 2003.
. Тема идей и их воплощений уже была затронута в стихотворении — вспомним строки о «детстве» Рима. В данном же случае складки в представлении лирического субъекта — это знак несовершенства вещи, в то время как «нагота» ассоциируется с идеальным состоянием. Иными словами, «нагота» — это идея, а «складки» — это ее неидеальное воплощение. Нагота в стихотворении уже встречалась — в виде босого тела, а складки — в виде предполагаемой одежды. Поскольку мотив одевания передает логику самой жизни, то нагота характеризует человека на входе в жизнь, а складки — на выходе. Поскольку далее идет сравнение «складок» и «лиц», можно сказать, что речь идет об идее человека и самом человеке. Идеальные «лица», в которых меньше любви — это мраморные лица римских статуй, неживое воплощение представления об идеале человека. Это то, что вечно, поскольку у идеи нет жизни или смерти — она существует вне времени. К тому же, статуи принадлежат пространству застывшего Рима — пространству вне времени. Остановившийся Рим снова предстает как мир идей. Но при этом нагота указывает на еще один атрибут вечного в человеке — на саму идею человека.
Итак, мир состоит из вечного (идей) и временного (их воплощений — вещей). Эта модель мироустройства одинакова как для человека, так и для мира. Соответственно, если в человеке происходит деление на вечное (душа, идея) и смертное (тело), это же деление работает и для модели, по которой устроено мироздание.
А вот заявление «В этих последних больше любви, чем в лицах» как раз и начинает объяснение того, почему лирический субъект стихотворения не может принять приглашения «вечного города» — не может «замереть», стать идеей. В том, что приносит жизнь земная, смертная, — «больше любви». Конечно, лирический субъект не мог бы «замереть», если бы и думал иначе. Но собственную смертность он принимает в себе как ценность.
Объяснение становится еще более понятным после следующих строк. В них используется метафора, которая, раскрываясь, преподносит нам образ тенора в опере как образ человека в жизни. Опера — метафора смертной жизни человека. Но главное — песнь тенора тем более сладка, что тенор исчезнет «навек» в кулисах: иными словами, песня смертного хороша потому, что он умрет. Визуально кулисы напоминают «складки». Следовательно, уход в кулисы — уход в смерть. Это подтверждается словом «навек».
Читать дальше

![Коллектив авторов - Кулинарная книга анархиста [Сборник рецептов]](/books/29797/kollektiv-avtorov-kulinarnaya-kniga-anarhista-sbor-thumb.webp)