Вторая строка содержит важный мотив отношений между автором-творцом и внешним миром, представленным вещью. Важно, что вещь здесь несамостоятельна и неотделима от человеческого взгляда на нее. Этот поэтический тезис — предпосылка для поэтического выражения зависимости между внешним миром и языком: если вещь неотделима от взгляда на нее, значит, она неотделима и от слова. Вторая строка в каком-то смысле заявляет права автора-творца на творение мира посредством языка. И как бы реализуя это право, автор-творец сразу в декларативной форме устанавливает несколько законов своего мироздания: «Вода представляет собой стекло. / Человек страшней, чем его скелет».
Исследователи творчества Бродского выделяют тип метафор, играющих особое значение в его поэтике. Один из основных типов — метафора-копула, особенность которой состоит в том, что в ней объект сравнения и сравнение напрямую отождествлены по принципу «А есть В» — в данном случае «вода» есть «стекло» [98] См. о метафорах-копулах у И. Бродского: Полухина В., Пярли Ю. Словарь тропов Бродского (на материале сборника «Часть речи»). Тарту, 1995. С. 15. В частности, здесь отмечается, что метафора Бродского основана «не только на скрытом или очевидном сходстве описываемых предметов и явлений или даже на предполагаемой аналогии между ними, но и на произвольном приписывании действий и признаков одного объекта другому, а также на допускаемом тождестве между разноплановыми денотативными сферами» (Полухина В., Пярли Ю. Указ. соч. С. 11). В цикле «Часть речи» метафоры-копулы чаще всего встречаются в грамматически осложненном виде: «Настоящий конец войны — это на тонкой спинке / венского стула платье одной блондинки…» (№ 9);«…сумма мелких слагаемых при перемене мест / неузнаваемее нуля» (№ 14).
. «Поэт… абсолютизирует подобные абсурдные метафоры в декларативном предложении, утверждая посредством этого свою власть в созданном им мире. В этой декларации катахрестической метафоры-копулы отражена установка поэта на сотворение, преобразование мира-текста через языковую метаморфозу» [99] Ен Л.Ч. «Конец прекрасной эпохи». Творчество Иосифа Бродского: Традиции модернизма и постмодернистская перспектива. СПб., 2004. С. 80–81.
.
В этом же стихотворении появляется еще один ключевой образ — след прошлого, с которым всегда имеет дело человек настоящего:
Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившим сквозь бахрому
оттиском «доброй ночи» уст,
не имевших сказать кому. (№ 4)
Это предсказание появляется как один из вариантов представления автора-творца о том, что произойдет с течением времени с лирическим героем. В данном случае лирический герой во многом — представитель цивилизации как таковой. Цивилизации у Бродского противостоит Природа. Показательный отрывок из эссе «Меньше единицы», написанного в год окончания цикла «Часть речи», в 1976 году: «Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать» [100] Бродский И. Меньше единицы. Избранные эссе. М., 1999. С. 32.
. Очевидно, что в стихотворении и эссе разворачивается один и тот же мотивный комплекс, в котором «моллюск» — одновременно образ лирического героя и погибшей цивилизации [101] К «моллюску» можно прибавить образы «морены», «ледника» и косвенно другие «водные» образы. Указанный мотив — элемент петербургского мифа Бродского. Еще до эмиграции в 1972 году в его поэзии появляется специфический петербургский сюжет о том, что однажды волна погребет под собой все созданное человеком: «Когда-нибудь оно, а не — увы — / мы, захлестнет решетку променада / и двинется под возгласы «не надо», / вздымая гребни выше головы, / туда, где ты пила свое вино, / спала в саду, просушивала блузку, / — круша столы, грядущему моллюску / готовя дно» (1971) (II, 416). Этот сюжет, готовящий к концу цивилизации, — постоянный элемент петербургского мифа (см. об этом подробно Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003). Отсюда постоянные моллюски и морские обитатели в дальнейшем творчестве — «Колыбельная Трескового мыса» (1975), «Новый Жюль Верн» (1976), «Часть речи» (1975–1976), «Шведская музыка» (1978), «Стихи о зимней кампании 1980 года» (1980) и т. д. Однако все-таки можно выделить некоторое различие между русским и американским вариантами этого сюжета. В первом случае собственно сюжет гибели цивилизации находится в сильной позиции, во втором случае — ситуация безадресности, которая предшествовала гибели (в сильной позиции стоят строки: «оттиском «доброй ночи» уст / не имевших сказать кому»). Соответственно и гибнущая цивилизация предстает личной — это гибель не макро-, но микрокосма. О петербургском мифе у Бродского см. монографию Kononen M. «Four Ways of Writing the City»: St. Petersburg-Leningrad as a Metaphor in the Poetry of Joseph Brodsky // Slavica Helsingiesia 23, Helsinki, 2003.
. Природа с большой буквы появится в эссеистике поэта чуть позже — в «Путеводителе по переименованному городу» (1979): «В местном ощущении Природы, которая когда-нибудь вернется, чтобы востребовать отторгнутую собственность, покинутую однажды под натиском человека, есть своя логика» [102] Бродский И. Указ. соч. С. 76.
. Здесь — тот же апокалиптический мотив: Природа в финале восторжествует над цивилизацией.
Читать дальше
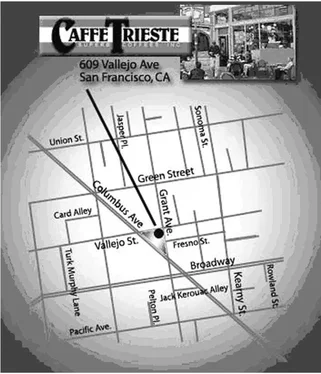
![Коллектив авторов - Кулинарная книга анархиста [Сборник рецептов]](/books/29797/kollektiv-avtorov-kulinarnaya-kniga-anarhista-sbor-thumb.webp)










