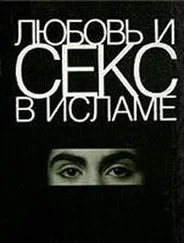Собственно, некоторые исследователи, обратившие внимание на «Кентавров» Бродского, пошли именно по пути отождествления этого античного образа с авторским «я». Так делает, например, О.И. Глазунова, когда пишет: «С образом кентавра у Бродского связаны глубоко личные мотивы… Поэт стал тем самым кентавром — новой явившейся миру сущностью» [64] Глазунова О.И. Иосиф Бродский: американский дневник. О стихотворениях, написанных в эмиграции. СПб., 2005. С. 278–279.
.
Нас, однако, такой подход в трактовке не удовлетворяет по причине своей упрощенности и очевидной одномерности. При допущении подобной точки зрения возможным оказывается осознание как автобиографической любой вещи, в которой так или иначе актуализированы мотивы творчества, одиночества, самоизоляции и проч. — например, «Осенний крик ястреба» (1975), где присутствует все названное, причем на ярком фоне значительного числа реалий, корреспондирующих с жизненными обстоятельствами Бродского в первые годы его проживания в США.
Если сравнивать с предыдущими «Кентаврами», текст Epitaph for a Centaur оказывается чрезвычайно удобным для семантического (содержательного) анализа с вытекающей интерпретацией еще и по той причине, что в нем выдерживается естественная последовательность событий от рождения протагониста до его смерти. Поэтому анализировать его, по нашему мнению, было необходимо именно с опорой на естественную «жизненную матрицу» и с учетом разворачивающейся динамики заключенных в нем смыслов, переданной логически оправданным лексическим рядом (прежде всего глаголов, среди которых выделяются глаголы речи, но также и других слов с общими и конкретными значениями действий).
В результате приходим к выводу, что в тексте явлен «тихий конфликт», возникающий как неизбежное противостояние между любой нестандартной, незаурядной личностью и окружающим ее социумом. Кентавр, это мыслящее существо, буквально разрываемое на части ввиду собственной амбивалентности, страдающее от неспособности постичь свое исходное предназначение, — создан людьми, т. е. обществом, но причина его появления так и осталась неясной. Из трех «действующих лиц» стихотворной пьесы — кентавра, автора, публики — именно последняя на протяжении всего текста хранит глухое, угрюмое молчание. Оправданным поэтому кажется избранный жанр эпитафии: обществу не нужны, не требуются кентавры, кентавр должен погибнуть. Его ранняя смерть представляется столь же естественной, сколь противоестественна его двойственная природа.
Идею противостояния кентавра как собирательного образа (ср. артикль a в заглавии) и его окружения настойчиво подсказывает читателю тот парадокс, который передан «лексикой действия и бездействия». Кентавр, судя по тексту, мертв, но при этом активен: он говорит (говорил — said), бродит (бродил — wandered), удивляется (удивлялся — marveling), учится (научился — learned) и т. д. В отличие от кентавра, «они», т. е. окружающие — живы, но при этом пассивны. Словно в наказание за неумение и нежелание найти общий язык с созданным им же кентавром автор лишает «остальных» голоса, карает их за глухоту — немотой. Но, что хуже всего, и после смерти кентавра «публика» ведет себя так же, как и при его жизни: она была такой во все времена, такой она останется навсегда. Как единственно возможный вывод и выход, самым разумным способом общения с «остальными», по мнению Бродского, — будет отсутствие речи, молчание, смерть.
В заключение попытаемся ответить на два частных, но существенных вопроса, остававшихся до сих пор нерешенными: а) что роднит «Эпитафию», при ее явной смысловой самостоятельности, с предшествующими ей четырьмя «Кентаврами»; и б) почему «Эпитафия» существует только по-английски.
Нетрудно заметить, что в «Кентаврах I–IV» автор взирает на этих античных существ, всегда возникающих в некоем множестве, вместе, в табуне, часто весьма неожиданно — как на некий курьез, ставший странным, но также и страшным результатом долгого эволюционного пути человеческой расы. Иными словами, автор испытывает к персонажам первых четырех «Кентавров» не так уж много симпатии, если испытывает ее вообще (как в «милитаристической» их трансформации). В лучшем случае это любопытство, которое видим в «футуристическом» и «лингвистическом» стихотворениях.
Иначе дело обстоит с кентавром из «Эпитафии»: это глубоко несчастное, уродливое и одинокое существо пользуется сдержанным сочувствием автора от начала и до донца текста. Такая двойственная авторская позиция подтверждает известное: не все кентавры одинаковы. Одни являются воспитателями героев (Хирон), другие как раз враждебны миру героев. И эти последние дики, злобны, буйны, невоздержанны; они проводят время в сражениях с лапифами, похищении женщин, пьянстве. И их — большинство. Однако и тех, и других роднит общий признак миксантропизма, который по-разному воплощается в «Кентаврах I–IV» и в кентавре из «Эпитафии». В первом случае он вовсе не воспринимается обществом как порочное отклонение; обществу грозит перспектива «окентавривания», которой оно, общество, и не думает сопротивляться. Во втором случае тот же миксантропизм служит основанием для раннего ухода кентавра со сцены и стирания его из памяти общества. Без этого образа, наделенного положительными чертами «несостоявшегося героя», цикл Бродского был бы неполным, ущербным, а его генеральная концепция не столь убедительной.
Читать дальше

![Коллектив авторов - Кулинарная книга анархиста [Сборник рецептов]](/books/29797/kollektiv-avtorov-kulinarnaya-kniga-anarhista-sbor-thumb.webp)