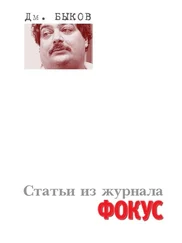Я знаю множество людей, приехавших завоевывать Москву и закрепившихся в ней, — но никто из них не стал москвичом, хотя их дети поступили в элитные лицеи, а внуки вообще не будут помнить, что предки когда-то приехали сюда с одним чемоданом. Все эти завоеватели до сих пор испуганно косятся по сторонам. Точно так же, скажем, один мой приятель завоевывал женщину, продолжалось это три года, а когда он ее завоевал, она оказалась дурой, и вдобавок он ее совершенно не хотел. Москва, конечно, не то чтобы оказывается дурой. Но завоевывается ведь не город нашего детства, не наши скверы, дворы и переулки, а казино «Метелица», Рублево-Успенское шоссе, зеркальные офисы в центре — словом, все те места, которые нормальному человеку даром не нужны, потому что его там тошнит. Москва, которую предлагается завоевывать — очень страшная. Лично я не завидую питерским, переехавшим сюда. Единственное, с чем у них тут нет проблем, — так это с трехразовым питанием, но сильно подозреваю, что состояние их желудков к моменту восхождения на Олимп уже исключает наслаждение какой бы то ни было едой, кроме упомянутого кефира.
Понаехавшие должны знать, что они впряглись навеки. У них никогда не будет паузы. Удовлетворение исключено, ибо цель коварно отодвинулась. Что до собственно москвичей, они больше всего похожи на негров из классического анекдота: белый капиталист спрашивает такого негра, отчего он не займется бизнесом. «Для чего?» — «Ну, как! Сможешь лежать и ничего не делать…» — «Так я и сейчас могу». Разница в том, что белый капиталист никогда не сможет лежать и ничего не делать, для него это смерти подобно, — поэтому нирвана для него недостижима, а прирожденным москвичам она дана в ощущении. И материальное их положение — чаще всего весьма среднее — никак на это не влияет. Лучше жить в двухкомнатной и считать такое положение нормой, чем заселиться в пятикомнатную и постоянно бояться утратить ее вместе с жизнью.
Честно говоря, я никогда не понимал московского (как и любого другого) снобизма и не люблю бравирования имманентными чертами вроде места рождения. Но поскольку Москва, точней, органичное существование в ней — не врожденное свойство, а состояние души, скажу с полной уверенностью, что быть москвичом можно где угодно, хоть в Зажопинске, и многие мои зажопинские друзья мне куда ближе новодельных москвичей. У меня никогда не складывались романы с москвичками, я женат на уроженке Новосибирска, которая и до переезда в Москву была абсолютной москвичкой в смысле поразительного умения комфортно и органично ощущать себя в любой среде; она палец о палец не ударила для завоевания этого города. Впрочем, и мне не пришлось ее завоевывать. Мы как-то очень быстро обо всем договорились, чуть ли не в первый день, — скоро, кстати, будет тринадцать лет, как раз в апреле. Думаю, чтобы стать москвичом, надо состояться в любой точке земного шара, — и это будет Москва. Переезжать в реальную Москву совершенно не обязательно и даже обременительно. «Я и есть литература; где я, там литература», — говорил Кафка, и в этом смысле где приличный человек, не утруждающийся самоутверждением, потому что владеет всем от рождения, — там и столица.
Лучше всего история о тщетности покорения каких бы то ни было столиц изложена у Бальзака, который вообще, вероятно, самый русский из французских классиков — потому что Франция после реставрации, о которой он писал, больше всего напоминает Россию. Она только что поняла, чего стоит отступление от традиции, память эта еще свежа, — и теперь она готова терпеть себя такой, какая есть, лишь бы не гильотина на Гревской и не митинги на площадях. Три главных героя Бальзака (героини более разнообразны) сводятся, в общем, к трем типам: Вотрен, Растиньяк и папаша Горио. Вотрен — жулик, циник, изрядная скотина, описанная без всякого романтического флера; тем не менее авторские и читательские симпатии почти всегда на его стороне, потому что он органичен, не пытается казаться лучше, чем он есть, и одинаково готов как срывать цветы удовольствия, так и расплачиваться за это. Вотрен хорош и в победе, и в поражении, он умеет переходить на нелегальное положение, но с той же легкостью блещет в свете; он элегантен и тогда, когда у него нет ни су. В некотором смысле он прародитель Бендера, такого же гражданина мира (уверен, он не стал бы завоевывать Рио де Жанейро, — оно и так принадлежит ему с рождения). Растиньяк — совсем иное дело, он постоянно вынужден закрепляться на отвесной скале, и нет ни малейших сомнений, что в силу природной расторопности и одаренности он на ней удержится. Иной вопрос, что из Растиньяков никогда не вырастают аристократы. Аристократами могут в лучшем случае стать их дети, и от тех будет разить трудовым потом. Наконец, папаша Горио — самый настоящий парижанин, несмотря на то, что доживает век в пансионе, лишившись всего, в том числе роскошного дома: где папаша Горио — там и Париж, потому что там бесконечная отцовская любовь. А что ест и на чем спит папаша Горио — не принципиально: он вообще не парится насчет того, где находится. Ему важно, чтобы у дочек Нази и Диди все было в порядке.
Читать дальше