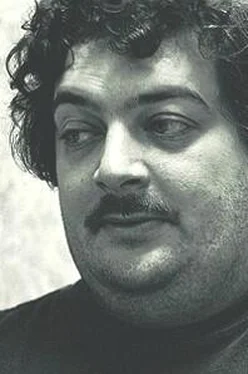С такой позитивной программой, сами понимаете, русский мальчик давно поджег бы мир и поплясал на его руинах, но, слава Богу, его останавливает еще одна мальчишеская черта — а именно ненависть к рутинной работе. Если он умеет работать — стало быть, он уже не мальчик, но муж. Если же ради торжества его идеи достаточно орать, проповедовать, мечтать, убивать или умирать — это он завсегда пожалуйста; тот же Достоевский примерно показал преображение русского мальчика под действием неожиданной для него идеи. Вот он, студент, лежит в своей каморке, думает-думает и придумывает, что для блага Многих вполне можно убивать Немногих, а делать это могут те Совсем Немногие, которые Право имеют. Что сделал бы из этого сомнительного тезиса другой мальчик — например, немецкий? Он написал бы высокопарную поэму в прозе «Так поступают Заратустры» или что-то в этом роде, а потом вообразил бы себя Дионисом и сошел бы с ума. Что делает русский мальчик? Это мальчик прямого действия, как любит называть свою газету еще один мальчишка; он берет топор и идет убивать несчастную вошь, да заодно уж и сестру ее, кроткую Елизавету. И ведь он хороший, добрый мальчик, ему лошадь жалко и Соню Мармеладову, — просто он убежден, что из всякой теории немедленно следует конкретное решение, и это его убеждение позволило Игорю Губерману назвать русских революционеров с предельной точностью: «Убийцы с душами младенцев и страстью к свету и добру».
Русскому мальчику, вообще говоря, не худо бы помнить, что мир устроен не просто так, а с умыслом, что сдвинуть здесь даже одну шестеренку без серьезнейшего риска обрушить все мироздание нельзя по определению, что несправедливость присуща человеческой природе, что жизнь есть прежде всего внутренняя борьба, а потом уж борьба с обстоятельствами, — но всего этого ему вовремя не объяснили, а сам он уже не дотумкает, потому что перед его мысленным взором сияет Огромная Правда. Этой правдой может оказаться что угодно, оказавшееся перед глазами русского мальчика в начале пубертатного периода, когда местные мальчики особенно внушаемы. Может быть марксизм, а может — идея разведения, я не знаю, баклажанов. И тогда его ничто не остановит — он засадит баклажанами всю лунную поверхность, заставит их разводить на крайнем Севере и Дальнем Востоке, и все потому, что его жажда справедливости не утоляется ничем иным. Правда, сам засевать не будет — русский мальчик предпочитает руководить. Хрущев был безусловно этой породы, со всеми ее плюсами и минусами.
Особенно много русских мальчиков было в эпоху индивидуального террора — Халтурин, Каляев, даже отчасти Савинков этой породы. Азеф на этом тонко сыграл: русские мальчики были в таком восторге от себя, что совершенно не умели разоблачать провокаторов. Отрицать героизм этих одиночек — значит в самом деле не уважать величие (а величию и так много достается в наше время), но нельзя не признать, что индивидуальный террор отличается от государственного только количественно. Культ героической гибели и отважного противостояния мироустройству, столь распространенный в среде русской молодежи, аукается нам до сих пор — трудно было вернее скомпрометировать идею, которой служили русские мальчики; они-то и погубили все пристойное, что в ней было, — исключительно для того, чтобы тем более себя уважать.
Ведь каково было возможное будущее Коли Красоткина — ежели допустить, что Достоевский закончил бы «Братьев», дописав к ним второй том? Игорь Волгин доказательно утверждает, что судьба Алеши Карамазова была — пожертвовать собою, собственной судьбой доказать мальчикам гибельность их пути, пойти в революцию (вероятно, даже убить царя — был и такой вариант), и крахом собственной биографии доказать, что путь этот окажется тупиковым и самоубийственным, кровавым и бессмысленным! Может быть, Достоевский уже понимал, что русского мальчика не остановит ничего, кроме гибели другого русского мальчика — демонстративной, бессмысленной и беспощадной? Впрочем, и она никого не останавливала, скорее служила примером: если кто и одумывался, как эсер Созонов, — это объясняли слабостью и надломом, а никак не духовным ростом. Да и прозрение это оборачивалось чаще всего гибелью: Созонов покончил с собой. Товарищи, разумеется, интерпретировали его самоубийство как протест — но последние его письма проливают иной свет на это решение…
Что сталось бы с Красоткиным? Он слишком самолюбив, чтобы пересмотреть свои взгляды; слишком умен, чтобы прибиться к государственной службе; слишком совестлив, чтобы признать несправедливость изначальной приметой мироустройства. Красоткин обречен — он играет со смертью с детства, укладываясь на рельсы под проходящий поезд. Кстати, это любимое развлечение комиссарских детей, подростков тридцатых годов. Красоткин, по всей вероятности, в восьмидесятые пополнит отряд единомышленников Степняка-Кравчинского, — и ни автор, ни Алеша не видят решительно никаких способов его остановить. Что сделаешь с чужой совестью? Разве что государство востребовало бы наконец этих совестливых мальчиков себе в слуги, — но на это надежда плоха.
Читать дальше