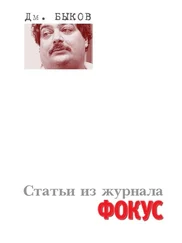Впоследствии таким же контрастом поражал Куприн, тоже офицер: невозможно ведь без слез перечитывать «Кадетов», где, помните, у маленького кадетика с курточки оборвали пуговицы. А мама старалась, пришивала. И каждый, пишет Куприн, хоть раз в жизни да был таким кадетиком в курточке, сшитой дома любящими руками. Это кто пишет? Это пишет человек чудовищной физической силы, подрабатывавший одно время борцом в цирке; организатор столь циничных розыгрышей, что товарищи, завсегдатаи «Вены», и те от него шарахались. Пьяница, заслуживший уважительную эпиграмму: «Если истина в вине, то сколько истин в Куприне?!» Медведь, забияка, кутила, предупреждавший при знакомстве картавой своей скороговорочкой: «Задираться со мной очень не советую». Злопамятнейший, ничего не забывавший и не прощавший, — но как начнет давить коленом на слезные железы, так читателю и карачун. В детстве я бесконечно ревел над «Королевским парком», давно не перечитывал, а ведь и сейчас, наверное, зареву. Там старые короли, после всемирной революции сосланные за ненадобностью в дом престарелых, прогуливаются по аллеям городского парка, ссорятся, доспоривают никому не нужные старые споры, — и вдруг девочка подбегает к одному такому дедушке и предлагает ему сахарное яичко. А он не может съесть это яичко, у него нет зубов. Тогда девочка, расчувствовавшись, зовет папу: папа, давай возьмем дедушку к нам! «Что ж, возьмем», — покряхтев, вздыхает папа. И старого короля принимают в семью, но, прежде чем отправиться в новое жилище, он останавливается среди садовой аллеи и дрожащим голосом произносит: «Не думайте, что я… совсем бесполезен! Я могу клеить… прелестные коробочки… из цветного картона!»
Ведь это сделано, в общем, на пальцах. Но прошибает — может быть, именно по контрасту с самой купринской личностью, которая чувствуется в каждой фразе: видно, что сильный человек пишет, властный, склонный к простым решениям. Сентиментальность — вот, сформулировал наконец, — это именно искусство сильных, пребывающих во временном отчаянии. Слабый слабого не пожалеет, закон такой, много мы видели ему подтверждений; впервые на эту мысль навел меня Константин Райкин, чей острый и парадоксальный ум давно б наплодил ему врагов, когда бы бесконечное, чисто физиологическое обаяние не уравновешивало этой опасной черты. Заговорили про Чаплина — должно быть, говорю я, все-таки исключительных душевных качеств был мужчина, несмотря на свинство с подругами и высокомерие с коллегами. Другой не мог бы так изобразить сирого-малого-убогого… А знаете ли вы, говорит Райкин, какая это страшная сила — сирый-малый-убогий? Как мало он сам склонен кого бы то ни было жалеть? Чаплинский бродяга — это не маленький человек. Попрошу не путать. Это большой человек, переживающий временные трудности. А маленький человек — это гоняющийся за ним констебль или мысленно пожирающий его толстяк из «Золотой лихорадки».
Прошибить современного человека еще трудней — тут требуется железный кулак. Как-то Юрий Буйда, сам писатель огромного темперамента и неоцененной покамест изобретательности, сравнил Петрушевскую с, тысячу раз прошу прощения, классическим немецким офицером, который собачке лапку лечит, а через час идет пытать. Не знаю, какова Петрушевская в жизни, — говорят, очень обаятельна, — но думаю, что жести ей не занимать. С ней трудно, должно быть, и за своих она глотку порвет. Вот Татьяну Толстую — резкую, большую, часто грубую — я не боюсь совершенно: я не чувствую в ней и близко той силы, которая есть в тихой и язвительной Людмиле нашей Стефановне. Потому что и проза Толстой, в общем, не сентиментальна: была попытка в «Петерсе», но — малоудачная. Никого по-настоящему не жалко, и слишком много в мире горячей, цветущей прелести, чтобы отвлекаться на больное и бедное, слабое и жалостное, одинокое и трогательное. Вот веранда с цветными арлекиновыми стеклами, вот радуга вокруг шланга, вот граммофон со старыми пластинками — ребенок в детской, да и только. Сплошное счастье. Нет, сентиментальность — искусство непрощающих, тех, кому с детства оттоптали душу: ничто, кроме одной кровоточащей раны их внимания не привлекает, ничто не веселит. Маниакальная сосредоточенность на несчастных. Как смеешь ты пахнуть, куст сирени, как смеешь ты вообще тут светить, звезда, когда где-нибудь в печальной однокомнатной квартире лежит парализованная старуха, а у постели ее сидит больная дочь?
Сентиментальность как род литературы требует, конечно, определенной редукции мира, такого фильтра на глазах: отмечено Лидией Гинзбург, разбирающей поздние толстовские очерки. Вот, пишет Гинзбург, Толстой дает портрет умершей прачки — и подчеркивает ее мягкие тускло-золотистые волосы, и кроткое выражение бледного лица. А другой автор, объективный, упомянул бы, допустим, ее большие красные руки или вспомнил бы, как груба бывала эта прачка, потому что кротких прачек не бывает (или уж они умирают совсем рано: профессия не располагает к душевной мягкости). Но Толстой сделал так, что нам запомнились кроткие мягкие волосы, и мы рыдаем над прачкой, и все сентименталисты мира подносят к нашим глазам именно такие линзы, чтобы самое жалкое и трогательное бесконечно укрупнилось, а все земное и пошлое отодвинулось в бесконечность. Ведь даже у героев Петрушевской есть какие-то свои радости, даже у всех этих параличных старух и их непутевых, всегда беременных дочерей; но автор этого не видит в упор. Он видит то, что так убийственно, так жарко и жалко назвал «робкой любовью», и в результате мы дергаемся, припеченные каленым железом жалости, и временами ненавидеть автора готовы за то, что он снова и снова к нам прикладывает это клеймо; но автор знает, что иначе с нами нельзя.
Читать дальше