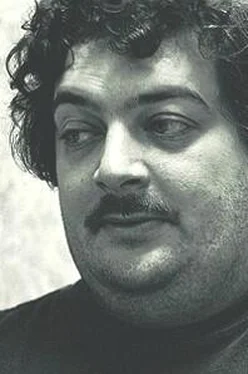Советский Союз, разумеется, не имел никакого морального права давить танками Пражскую весну. Но надо помнить о том, что вместе с этой весной он пытался раздавить еще и «свободу бить посуду». На деле же в результате этих истинно слоновьих телодвижений в мировой посудной лавке главной жертвой 20 августа 1968 года оказалась именно советская оттепель. Литераторов нагнули очень быстро — и они, поворчав и поуходив в многомесячные запои, приспособились к существованию в новых обстоятельствах. С учеными оказалось не так просто — Сахаров возглавил духовное сопротивление. К сожалению, Сахаров звал совсем не к тому, что осуществилось на практике, ибо когда в России дождались наконец свободы — эта свобода первым делом уничтожила культуру, а потом науку: сложные системы уязвимы. И в замкнутой теплице советского режима так легко было принять простоту за веяние истинной либеральности, а бунтующее стадо, требующее жвачки, — за новое прекрасное поколение…
В 1968 году, 40 лет назад, случилась, в сущности, очень простая вещь: простота задавила еще одну сложность. Простота эта наступала с двух сторон — с Востока и с Запада. Российские шестидесятники, которых в равной мере не прельщали леваки и праваки, — оказались надломлены навеки, а социалистической системе был нанесен удар, от которого она уже не смогла оправиться. Устояла другая система — та, которая не гонит человека в сверхлюди и гарантирует ему прочное стойло. Впрочем, все это было предсказано еще у Сэлинджера, чей молодой бунтарь вернулся домой, к общечеловеческому. А до него — все было написано у Цветаевой, тоже предсказавшей сытый бунт детей в «Крысолове». С той только разницей, что дети в ее легенде утонули, а реальные детки, бунтовавшие в Париже в мае 1967 года, успешно встроились в истеблишмент и раскаялись в милых заблуждениях молодости.
Мне могут возразить, что советская система и до всякой Пражской весны посадила Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанскова, ужесточила цензуру… Все так. Но до 1968 года у советской оттепели была надежда на сотрудничество с государством, на постепенный переход от гнета к партнерству, на медленное вытеснение сатрапов интеллектуалами. Сорок лет назад эта иллюзия исчезла, и любое сотрудничество интеллектуала с властью стало выглядеть коллаборационизмом. Хотя некоторые не понимают этого до сих пор.
Шестидесятники — половина их была фронтовиками, а половина младшими братьями фронтовиков, — надолго останутся самым талантливым русским поколением. Нам они преподали четыре замечательных урока.
Первый состоит в том, что всякий бунт — левый или правый — ведет не к свободе, а к радикальному упрощению; свобода нужна только сложным системам и людям, и принимать простоту за нее — опаснейшее, хоть и понятное заблуждение. Шестидесятникам, к счастью, хватило ума это вовремя понять, но сказать об этом вслух они могли лишь крайне осторожно, будучи заложниками ситуации. В целом же «свобода выбрать поезд и презирать коней» раз за разом оборачивается скотством.
Второй урок — в том, что наибольшая эффективность науки и наибольший расцвет искусств достижимы лишь в те короткие промежутки, когда государство их уже спонсирует и защищает, но еще ими не руководит.
Третий же сводится к тому, что из симфонии физиков и лириков, народа и интеллигенции, технократии и власти — ничего, к сожалению, не получается. По крайней мере, здесь. По крайней мере, пока.
Но если к этому не стремиться и об этом не мечтать — не получится совсем ничего. Это четвертый и самый грустный урок.
№ 10(27), 22 мая 2008 года
сладкие пытки родины
Высказываясь однажды о «Дне опричника» Владимира Сорокина, Артемий Троицкий упомянул о садомазохизме русского патриотизма как о чем-то общепризнанном. Генезис этого садо-мазо занимает меня давно и никем, кажется, как следует не описан. Нет слов, в том, чтобы слишком пылко отдаваться родине и желать насилия с ее стороны, в самом деле есть нечто эротическое и притом болезненное, — но это, конечно, не только русское явление. Штука, однако, в том, что именно в России у него есть любопытные особенности и слишком устойчивая садическая окраска. Вспоминаю газетный очерк 1979, кажется, года — там «Комсомолка» рассказывала о подвале, в котором старшеклассники играли в гестапо. Подчеркиваю — старшеклассники, а не какие-нибудь пионеры; «гестаповцы», насмотревшись «Семнадцати мгновений» и много еще чего, устраивали сексуальные оргии, имитации повешений, расстрелов, допросов — и все это с участием девушек, которые не только не возражали, но здорово вошли во вкус. Все это было описано хоть и с пылким пафосом отвращения, но весьма откровенно по тем временам: чувствовалось, что и авторы относятся к происходящему с живым интересом. В финале следовал неизбежный гражданственный монолог — вот, к услугам этой молодежи были кинотеатры, библиотеки, кружок мягкой игрушки, но их неумолимо тянуло в подвал. Что же это такое?!
Читать дальше