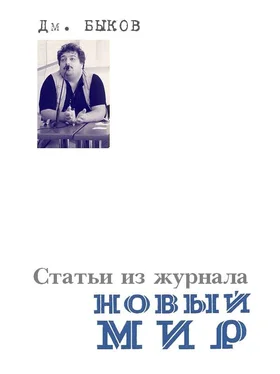Как вам нравится такой, например, пассаж:
«В носу и в корме кокоры должны были лежать более плотно, чем на льяле — посередке барки. В распор кокорам на лыжины вколотили распущенные пополам чурбаки — чеглоки и накурки. На них потом ляжет настил днища — подмет, прижатый поверху брусом-киренем. Мужики принялись дырявить кокоры буравами и приколачивать их к днищу шпунтами. …Только на плечах огибках вместо бывок ставили высокие огнивы… На носу и на корме водружали могучие пыжи из толстых бревен-ёлтышей. Пыжи связывали собою всю укладку бортовин. Быки по парам от одного до другого сцепляли оздами.
— Хороший ты мастер, дед. Без охулки. Барке полный набор даешь. Ни одного бокоря с кипуном в волокнах. Ни одного бруса с косослоем — весь косослой на кницы пустил. И брус у тебя не пиленый, а на райно тесанный. И матерьял только свежий, без сохлых рвотин. Даже гарпины и бортовины на гибале распариваются… Даже на палатник ни одной горбылины…
Но Кафтаныч только взбесился от похвалы».
Взбесишься тут! Все эти кирени, чеглоки, накурки с оздами и пыжи с ёлтышами напоминают то ли глокую куздру и ненавистных ей бокров, то ли калушу, увазившую бутявку, то ли хливких шурьков, пыряющих по наве. Нечто подобное было у Сорокина — «знедо», «раскладка», «бридо», и за всем этим не было никакой конкретики — так, слова, обозначающие некую сложную технологию; непостижимому инструментарию «четырех» соответствовала их неприписанная (и, возможно, отсутствующая) цель. Но у Иванова-то все конкретно. И все это можно было написать по-русски, как написано, скажем, у Вячеслава Шишкова в «Угрюм-реке». Но Иванов признался в интервью, что нарочно берет из всех синонимов самый экзотический, красиво звучащий. То есть цель у него — вовсе не демонстрация своей осведомленности в вопросах строительства барки. Как и в «Сердце Пармы», он вовсе не рвался доказать свое знание древних наречий и боевых искусств. Он создает особую языковую реальность — вот почему пропускать длиннейшие пейзажи, тоже насыщенные диалектизмами, или технологические отступления вроде цитированного, со всеми его «сохлыми рвотинами», при чтении не рекомендуется. Белинский, помнится, пенял Гоголю именно за отступления — потому что не понимал, зачем они нужны в романе . Ну так ведь Гоголь романа и не писал! Написал черным по белому: «Поэма». Иванов такой подзаголовок ставить не осмелился, однако и у него тоже — поэма, причем романтическая, с богатым метафизическим подтекстом. Ему важен антураж — принципиально чужеродный, непривычный читательскому слуху, экзотический. Действие происходит непонятно где, в насквозь условном пространстве, и реальная Чусовая (ширину которой Иванов с удовольствием показывает, разводя руки в стороны) не имеет ничего общего с гигантской, мифологической рекой-жизнью, текущей через пространство романа.
Ничего исторического в «Золоте бунта» нет. Появляется тут Пугачев — правда, в видении героя, но поди пойми, что виденье (мренье, как говорят в романе), а что истина. Да половина событий этой книги никак не интерпретируется в терминах реализма! Куда делись солдаты, «ушедшие во мренье» — в странный оазис, проступивший уж подлинно меж тремя соснами? Кто ночью крутил избу, в которой Ефимыч, Осташа и солдаты заночевали? В роман Иванова свободно вплетаются самые разные мифологии — от древнеславянских до вогульских. (Кстати, бесчисленные вогульские словечки, все эти эруптаны и ургаланы, выполняют в книге ту же функцию — создают непостижимый мир, в котором значения, в общем, необязательны: читатель волен вчитывать их в текст самостоятельно, как самостоятельно представляет себе бокров и калушу.) И уж конечно, к традиционному русскому реализму никаким боком не относится фабула «Золота бунта», стоящая на главном фантастическом допущении: истяжельчестве, истяжении души.
В сущности, «Золото бунта» — такая же сектантская поэма, как «Серебряный голубь» Андрея Белого, и не случайна перекличка этого золота с тем серебром. Русская секта — традиционный объект особо пристального внимания символистов и фантастов, в диапазоне от Белого до Пастернака, от Вс. Иванова до Еремея Парнова. Нигде с такой силой не сказалась фантастическая и фантазирующая душа народа: иногда кажется, что православию она так и не досталась. Оно вынуждено довольствоваться страхом, послушанием, почтением к власти — то есть совершенно не теми чувствами, которые составляют основу религиозности, хотя и служат ее неизменными спутниками. Религиозность начинается с порыва вовне, прочь из мира, в котором нет ни красоты, ни справедливости, — и такова вера русского сектантства с ее пламенностью, болезненными фантастическими изломами и еще одной главной русской чертой, а именно ненавистью к остальному миру. Правда — у нас, прочие лежат во зле. Эта русская тяга к взаимному истреблению, русская претензия на обладание конечной истиной окрашивают все события нашей истории. Всякая революция оборачивается тут прежде всего самоистреблением и к налаживанию жизни никогда не ведет: одни сектанты бьются с другими, а государственников, по сути, и нет, потому что быть государственником, по сектантским правилам, «западло». Сектантскими чертами обладают все наши объединения, левые и правые, либеральные и консервативные. Признаки секты есть и у пугачевцев в изображении Иванова (не зря Емельян — он же Петр III — наделяется тут неким мистическим ореолом и пророчествует: он классический вождь секты — как, собственно, и Разин, и Ленин, не зря когда-то объединенные Нарбутом в одной строке). Потому, собственно, ни одна из побед — вне зависимости от того, консерваторы побеждают или либералы, — не приводит здесь к народному благу: главная цель победившего сектанта — истребление несогласных. Вот почему наша история — череда истреблений, вот почему весь путь ивановского Осташи — путь вражды.
Читать дальше