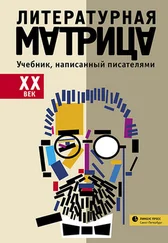Однако на следующей странице, лягнув по пути революционно-демократическую критику (как же нынче без этого, Автор ее так презирает, что теряет вопросительный знак в заглавии добролюбовской статьи), нам, не моргнув глазом и не скривив лицо, предъявляют новое открытие: “Роман Гончарова — ремейк русского инициационного мифа, мифа о становлении нации, о рождении русского психологического типа. В этом его мощь и надвременность” (курсив на этот раз не мой).
Профессорам, однако, не стоит волноваться, от них никуда не денешься, потому что через десяток страниц Иван Александрович оказывается, как уже сто пятьдесят лет известно, автором “русского реалистического романа”, “мастером психологического реализма”.
Так “Обломов” — это триллер, детектив, инициационный миф или же реалистический роман? Или, может быть, все это вместе, этакий невиданный жанровый коктейль? Нас, однако, не удостаивают дополнительными объяснениями, вместо этого увлекаясь живописанием мрачного будущего гончаровских героев.
“Если бы герои Гончарова существовали в действительности, то легко можно себе представить, что бы стало с ними в реальности, доживи они до Ленина и Сталина. Ольга стала бы комиссаром и ставила к стенке классовых врагов вроде Штольца. Обломова бы расстреляли как заложника, или он бы сам умер от голода. Такие, как Захар, необразованные крестьяне, составили позже элиту сталинской системы, и ему бы пришлось расстреливать Ольгу, как были уничтожены герои первых лет революции”.
Читая подобное (а подобной дешевой публицистики в сборнике много), хочется воскликнуть: “Вот вам сюжет то ли детектива, то ли триллера (комиссар Ольга – сильная задумка), вот клава, так и сочиняйте свой инициационный миф!” Но при чем тут Гончаров?
Панк Чацкий? Я бы еще понял, если бы Автор в этом воплощении, вспомнив свое недавнее прошлое, обозвал Чацкого национал-большевиком. Для этого можно придумать хоть какие-то основания: социальный протест, демонстративные формы его выражения. Но Чацкий-панк? Грязный, увешанный цепями, оскорбляющий общественную нравственность дикой музыкой? И тут нас не удостаивают какими-то объяснениями. “Сказал люминиевый, значит, люминиевый”.
“Чацкий — панк. Много их таких среди золотой молодежи — рвущих на себе рубахи от Gucci. Грибоедову он внятен. Наш Грибоедов, даром что строил карьеру, сам сочинял стихи в духе упомянутого Егора Летова…” (Т. 1. С. 36). И дальше следует цитата из лучшего грибоедовского стихотворения: “Мы молоды и верим в рай, —/ И гонимся и вслед и вдаль / За слабо брезжущим виденьем…”
За стихи, конечно, спасибо. Их мало знают. Но Грибоедов, сочиняющий в духе “упомянутого Егора Летова”… Ничего не скажешь, сильная мысль. Упомянуто, кстати, было вот что: “Всего два выхода для честных ребят: / схватить автомат и убивать всех подряд / или покончить с собой, с собой, с собой, с собой, /если всерьез воспринимать этот мир…” (Т. 1. С. 33). Правда, похоже? Примерно так же, как “Обломов” на русский триллер.
Кажется, что точные слова (термины), о смысле которых спорят какие-то там профессора, для Автора многих статей – пустышки, которые можно набить любой словесной трухой. Филология, конечно, не математика, она неточна, но не до такой же пародийной степени. Потому что некоторые “разборы” — чистая пародия, которая почему-то выдается за новый взгляд.
Вот Автор добирается до Маяковского, начинает анализ его раннего творчества (Маяковскому здесь посвящены две статьи, та, которую я цитирую, самая длинная в “Матрице”, целых семьдесят страниц).
“Стихотворение “Ночь”, которым открывается любое собрание сочинений Маяковского, — вещь подражательная и пустая. <���…> Те строки, что любят цитировать, когда говорят о выразительности Маяковского (“Багровый и белый отброшен и скомкан, / в зеленый бросали горстями дукаты…”), на самом деле исключительно невыразительны. Невыразительны они потому, что совершенно ничего не выражают. <���…> Стихи написаны о чем угодно — только не о России, не о Москве, не о взаправду увиденном. Странное дело: исключительно яркое по эпитетам стихотворение написано человеком, который словно не различает цветов, не видит действительности. Откуда бы в Москве тех лет взялись дукаты? Это что, такое образное переосмысливание бумажных керенок? Что еще за багровый и белый, где вы такие цвета в Москве найдете? Москва — разная: серая, голубая, перламутровая, мутная, тусклая, но вот багровых цветов в сочетании с зеленым и белым — в ней не имеется. Какие еще арапы с крылом попугая? Добро бы речь шла о временах нэпа, хотя и тогда арапов в Москве замечено не было, но в предвоенной России — что это за арапы, которые громко хохочут посреди багровых всполохов?” (Т. 2. С. 219 – 220).
Читать дальше




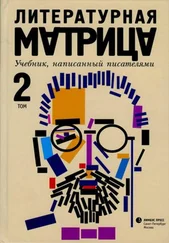
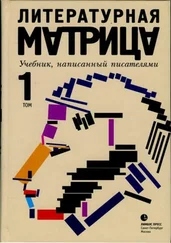

![Игорь Сухих - От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова [litres]](/books/430444/igor-suhih-ot-slova-o-polku-igoreve-do-lermonto-thumb.webp)