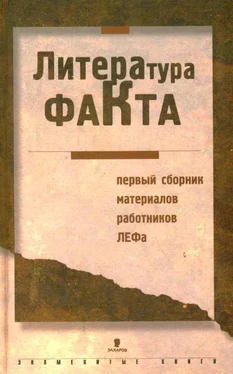Пишущему эти строки пришлось целых три года стоять во главе одной такой войны, и он помнит, каким ненужным раздражающим диссонансом прозвучали вовсе не плохие «сами по себе» строчки Безыменского. Нам нужен был тогда рабкор — в стихах или в прозе, безразлично, — который бы был так или этак с нами, ежедневно отмечал нашу борьбу и наши незадачи, «вдохновлял» бы нас, черт возьми, — это ведь тоже нужно! — и всячески вообще в стихах и в прозе продвигал бы с нами нашу драку, вплоть до полного одоления. Это не было бы, вероятно, поэмой, но… лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Безыменский же бросил нам свой шумный марш и — дезертировал!
И всякое такое воспевание со стороны сейчас, когда нужно работать, — есть дезертирство.
Нужно пересмотреть приемы
Переходя на новую литературу, мы все же учимся на старой. Нужно же у кого-нибудь перенимать — нельзя же так, совсем без наследства. Лучше всего, конечно, перенимать у близких — следует отталкиваться от чужих. Радищев с его «Путешествием из Петербурга в Москву», Пушкин с «Путешествием в Эрзерум», Гончаров с «Фрегат Палладой», Аксаков с «Записками ружейного охотника», Достоевский с «Дневником писателя» и другие — все это наши более или менее отдаленные, хотя и «формальные» только, родственники. Их приемы нужно взять и приумножить. Нужно взять кое-что и от литературы выдумки, — поскольку стопроцентного разрыва между жанрами нет, — и приспособить это взятое к месту и времени, т. е. в порядке условного использования.
История литературы знает случаи превращения случайных и подсобных жанров в жанры длительного пользования и внеутилитарные, — вполне законно и обратное явление. «Путешествие Гулливера» делалось, как в меру конкретный памфлет, — время канонизировало этот подсобный жанр в литературу вневременно-сказочную. Мыслится опять такой момент, когда эта забава для детей окажется игрушкой острожалящей. Вчерашняя сатира «Дон Кихот» становится предметом эстетического потребления, — отчего бы и нам не отобрать у эстетики то или это из ее орудий, обратив их на потребу наших дней — в плане условности? Нет абсолютов на земле, и всякое явление приобретает ту или иную значимость — только в связи с местом и временем.
То же и относительно литературного наследства.
Диалектика приемов
Старая литература держалась на нескольких прочных китах. Одним их главнейших китов был образ. Критик Белинский даже выразился так: «Художник мыслит образами». Устанавливая этим если не полный абсолют образа в искусстве, в частности в литературе, то уж во всяком случае примат его.
Отрицаем ли мы теорию образа начисто? Никоим образом. Мы только против абсолюта, и даже не за примат. Мы признаем огромно-вспомогательную роль уподобления как фактора, предвосхищающего мысль, это во-первых, и наводящего на точное понятие, во-вторых. Но мы отнюдь не склонны возводить это определенно подсобное — и очень преходящее — орудие мышления в какую-то литературную доминанту. Главное же, мы стремимся максимально рационализировать этот прием, усиленно подчеркивая относительность его значения в ряду других литературных приемов. Старые писатели слишком уж всерьез приняли положение об обязательности мыслить образно, и они старались измышлять свои образы даже там, где вещь воспринимается элементарным глазом. Вся старая поэзия построена на этой мистификации, и — сколько и сейчас еще есть чудаков, которые живут наследственным очковтирательством!
Новая литература впервые ставит образ на ноги. (Здесь, в частности, отметим колоссальную роль Маяковского, освободившего поэзию от мистицизма.) Новая литература на три четверти рациональна. Путь воздействия ее — через сознание. Не образность, а точность. Не дешевая символика, а правда живого факта. Художники слишком долго извращали действительность во имя призраков — пора объявить войну художеству!
Еще о нескольких китах художества
Вот — типизация и обобщение.
Как относимся мы к обобщению? Очень неплохо относимся к обобщению. Без обобщения немыслима ни старая, ни новая литература.
Только — разница.
Чем руководствовался классик-романист, сводя измышленную им действительность к какому-то единству? Классовым инстинктом в первую очередь, конечно, — хотя этот инстинкт и отрицался. Каждый измышлял действительность так, как она ему была милее. Но не за классовый инстинкт охаиваем мы старую литературу (наоборот: все лучшие произведения разных эпох, от «Капитанской дочки» до «Обрыва», от «Отцы и дети» до «Война и мир» — и явно классовы и максимально в рамках беллетристики актуальны), а за это вот как раз отрицание классовости, за подмену разума и воли интуицией, за объявление процесса «творчества» непроизвольным и таинственным. Мы плохо верим в этот таинственно организованный обман, именуемый объективизмом, и мы стремимся строить наше классовое обобщение вне всякого дурмана. Обобщение, т. е. монтаж, в литературе факта — это есть научное предусмотрение фактов на завтра, которое называется диалектическим материализмом. Последнее никак не исключает классовости. Наоборот. Оно научно обнажает классовость под флагом исторической условности: смотри — какой же класс; и что с собой несет; не отклоняется ли данный класс от разрешения возложенной задачи, — можешь действием вносить поправки!
Читать дальше