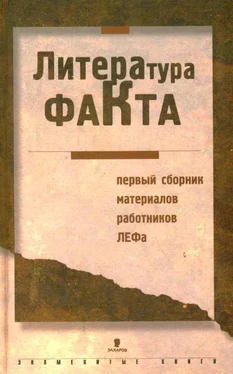Конечно, Чужаку ничего бы не стоило выпрямить его, выправить.
Так пугачевцы выправляли портреты Екатерины, пририсовывая к ним пугачевские бороды.
Забавно, что когда Пильняку понадобилось связать большевистскую революцию с пугачевщиной, то он дал одному из героев имя Пугачев и пририсовал к нему бороду, за что получил ироническое замечание от одного из критиков, участников революции: «Мы Пугачевых знаем, они бритые».
Работы Чужака прогрессивны тем, что он дает характеристики людей не стилизаторскими приемами.
Т. Гриц. Доброкачественная продукция
(К. С. Еремеев. «Пламя». Эпизоды октябрьских дней. Изд. «Федерация». Москва, 1928 г.)
Леф стоит не за всякие мемуары.
Мемуары пишутся в разных стилях: Болотов писал их по Лесажу, Жихарев — по Стерну, а Горький — воспоминания о Л. Толстом — приемами В. В. Розанова.
Рамки традиционной стилистической системы изгибают, деформируют факты, подчиняют их своим законам, особенно в отношении семантики. Поэтому мы стоим за такую подачу материала, которая бы менее всего его искажала.
Метод, за который мы боремся, не равен простому стенографированию, так как в последнем случае факты выстригаются под гребенку, исчезает их разнозначимость, противопоставленность, притупляется их функциональное острие. Поэтому новые фактограммы (дневники, мемуары, записные книжки, биоинтервью) должны строиться особыми методами селекции и монтажа материала, методами, которые вырабатываются не в беллетристике, а в журналах, газетах, в дневниках путешественников, в трудах по этнографии и социологии.
На пути к такой фактографической прозе стоит «Пламя» Еремеева. Это — запись октябрьских событий, главным образом гражданских боев в Ленинграде, и затем описание похода на помощь восставшей Москве.
Недостатком книги Еремеева является то, что автор во многих случаях описывает не отдельные конкретные факты, могущие попасть в поле зрения наблюдателя, а общие контуры, до некоторой степени абстрагированные и известные читателю из общих трудов по истории Октябрьской революции. Этот отход от конкретности особенно чувствуется в главе «На фронте перед Октябрем».
Значительно лучше выходят у Еремеева те места, где он суживает поле своего наблюдения и записывает отдельные мелкие эпизоды. Разговоры солдат на фронте, отношения их к надвигающимся событиям, описание боев под Пулковом — значительно лучше и ценнее, чем схематические рассуждения о магистральных движениях Октября.
Еремеев рассказывает, как после октябрьских событий он зашел в чайную и разговорился с хозяином, религиозным черносотенцем. Язык последнего необычайно колоритен, и весь этот эпизод, отмечая быстроту рождения фольклора, доходит до читателя своей конкретностью.
Кстати, в языке своем Еремеев полярен орнаменталистам, воспитавшимся на культуре стиха.
Еремеев пользуется минимальным количеством метафор, метонимий и других средств «украшенной» прозы.
Язык его лаконичен и деловит, как оперативная сводка.
Книга Еремеева — на пути к нужной нам очерковой прозе.
С. Третьяков. Продолжение следует
Профессиональное писательство (это, впрочем, относится и ко всем другим видам искусств) представляет собою корпорацию кустарей, работающих на фетишизированном материале фетишизированными приемами и свято оберегающих эти приемы от всякого рационализаторского воздействия.
Средневековый гонец-скороход в наше время стал телефонным коллективом; переписчик книг — типографией; менестрель — газетой. Все изменилось, но сохранился писатель-индивидуал со своим «стилем», «вдохновением» и «свободой», т. е. произволом формальным и производственным.
Мы живем в эпоху социального плана и социальной директивы. От хаоса, от бессознательного нащупывания нужных путей мы переходим к сознательному их проектированию в любой области, не исключая и искусства.
Вся целевая установка нашего государствования диктует и работнику искусства предельную целеустремленность и социальную функциональность работы, понимая под этим подчинение и материала и методов обработки общественной задаче.
И вот тут-то привычные навыки и методы писателя вступают в конфликт с плановостью и директивностью.
Не так давно в доме Герцена, на докладе Керженцева, Эфрос сказал примерно следующее:
«Писатель — термометр, опущенный в общественную среду. Не насилуйте его, не заставляйте его показывать то, что угодно вам!»
Читать дальше