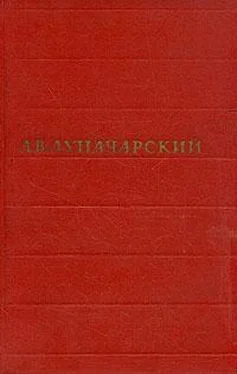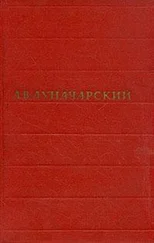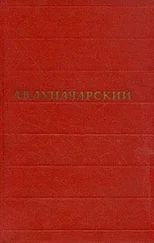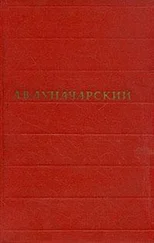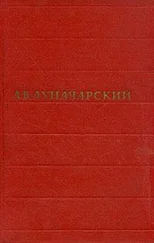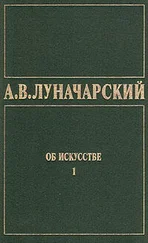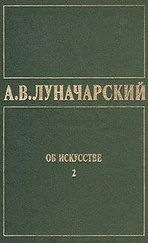В самом деле, с точки зрения диалектического материализма, не столкновением идей объясняются битвы жизни, а наоборот — общественные противоречия отражаются в столкновениях идей. Чтобы революционное мировоззрение могло одержать победу, недостаточно резких споров и смелой полемики, — иногда это может даже повредить. Залог победы — в самой практике борьбы, устраняющей материальные корни ложной идеологии и поднимающей человека над стихийно сложившимся уровнем его мышления. Пример буржуазного атеизма, который своими выходками против религии нередко лишь усиливает ее влияние на массы, здесь очень уместен. Совместная классовая борьба всех трудящихся, не разделяющая их по религиозному признаку, более верным путем ведет к уничтожению корней религии в экономической жизни общества и подъему сознательности в массах, чем самые убедительные логические аргументы и самые грубые насмешки.
Нет ничего более далекого от диалектического материализма, чем представление о том, что революционная теория есть просто верный эталон для измерения мыслей, что главное в ней — формально правильный вывод, а все, что не совпадает с этим выводом, должно быть безжалостно отброшено. В действительности дело обстоит не так. Революционная теория растет более нестройно, но зато и более жизненно. «Ее нельзя выдумать, она вырастает из совокупности революционного опыта и революционной мысли всех стран света» [23] В. И. Ленин, Честный голос французского социалиста (1915). — Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 11.
, — писал Ленин.
А где же при такой широте развития искать логической прямолинейности и абстрактной чистоты? Этого, слава богу, нет и не может быть. Именно потому, что марксистское мировоззрение не является нейтральным по отношению к идеализму в философии, оно не может уступить идеалистической иллюзии, согласно которой революционная теория рождается, как Афина из головы Зевса, и должна быть сохраняема в особых сосудах для чистых, правильных душ, не вступающих ни в какие компромиссы с действительной жизнью. Ибо такое отрицание нейтральности в философии означало бы лишь сектантство, мешающее революционной теории овладеть массами, безразличное к людям, не знающее уз товарищества и отсекающее, вместе с ложными взглядами, много ценных элементов, необходимых для борьбы с главным источником всякой ложной идеологии — материальным рабством людей. Одним словом, это было бы отступлением от диалектического материализма, сделанным во имя его собственной чистоты и цельности. «Идеологическое сосуществование» с такой карикатурой на революционную теорию также невозможно, и нейтральность по отношению к ней недопустима.
Все это для нас очень существенно. В распространенной, но далеко не точной системе понятий ленинизм означает исправление старой социал-демократической ортодоксии, например, философских взглядов Плеханова, в сторону большей строгости, непримиримого отношения ко всяким отклонениям от верной революционной теории. Это так и не так. Именно здесь необходимо проводить достаточно тонкое различие. В известном смысле можно даже сказать, что Плеханов как теоретик более непримирим, чем Ленин. Его чрезмерная непримиримость, связанная с определенными чертами характера и всей его идейной биографией, была причиной трагического одиночества этой замечательной личности. Она привела Плеханова к худшим, не диалектическим компромиссам, связала с людьми, недостойными стоять рядом с ним. «Плехановская ортодоксия», при всех ее высоких, неоценимых достоинствах, несет на себе печать абстрактности, и эта абстрактность, как отделение мысли, теории, логического анализа от объективного исторического содержания, сказывается во всем — и в критике народничества, верной и остроумной, но упускающей из виду демократически-крестьянскую черту этого движения, и в оценке русской революции 1905 года как буржуазной, без учета ее реальных движущих сил — рабочих и крестьян, и в анализе таких фигур истории русской общественной мысли, как Чернышевский, Добролюбов, Толстой. Метко, логично, непримиримо, но далеко не всегда исторически конкретно!
Если читатель обратится к ленинской записи «Как чуть не потухла „Искра“?» (1900), он найдет, что в позе самоизоляции одинокого марксистского борца, отвергающего всякое сближение, союз с теоретическими «недомерками», часто стоял именно Плеханов. Ленин предлагал, например, более снисходительное отношение к П. Струве, который уже сильно эволюционировал вправо, но не был в свое время, при первых своих уклонениях от марксизма, в 1895 и 1897 годах, подвергнут товарищеской критике со стороны Плеханова, так что вина за ложное направление его развития лежала отчасти на самих марксистах. Такое же расхождение мнений обнаружилось и по отношению к М. И. Туган-Барановскому. Со своей стороны, Плеханов считал прибывшую к нему делегацию в составе Ленина и Арсеньева (Потресова) несколько зараженной духом оппортунизма [24] См. В. И. Ленин, Как чуть не потухла «Искра»? — Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 337, 339, 340 и др.
.
Читать дальше