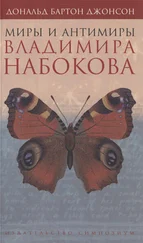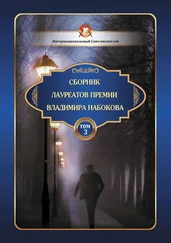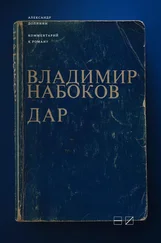…замысел романа закреплен в моем воображении накрепко, и каждый персонаж следует тем путем, который я для него навоображал. Я в этом частном мире — абсолютный диктатор, поскольку только я один и отвечаю за его прочность и подлинность. {217} 217 Набоков В. Интервью Альфреду Аппелю, сентябрь 1966 г. С. 596.
В «Приглашении на казнь» настоящий тюремщик — автор. Рядом с ним фигуры Родрига, Родиона и м-сье Пьера кажутся жалкими карикатурами. Это он, всевластный владелец вертепа, окружил в своем кукольном романе Цинцинната стенами «кое-как выдуманной камеры» (IV, 119), понастроил изысканные лабиринты, приставил к его камере стражников и разыграл в своем вертепе на глазах у Цинцинната кошмарную мистерию-буфф, издевательский valse macabre. [15] Dance macabre (фр.) — пляска смерти.
(Ср. «тур вальса» (IV, 48), который предложил Цинциннату тюремщик Родион в начале романа, или само галантное название романа, который, кстати, должен был называться «Приглашение на отсечение головы»). {218} 218 См.: Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Приглашение на казнь» // В. В. Набоков: pro et contra. СПб., 1999. С. 46 (перев. Г. Левинтона).
Гоголь когда-то писал о «припадках тоски», с которых начинался у него творческий процесс:
На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой … Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого выйдет какая польза. {219} 219 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [Л.; М], 1952. Т. 8. С. 439. Ср. также в письме Гоголя к В. А. Жуковскому от 10 января 1848 г./29 декабря 1847 г.: «И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения — вот происхождение моих повестей!» (Там же. Т. 14. С. 34).
Эти строки, перекликающиеся с «умственным распутством» Иудушки из «Господ Головлевых», о котором я писал в связи с героем «Отчаяния» Германом, можно отнести и к Набокову. С такого «припадка тоски» начинается, по-моему, творческий порыв самого Набокова, а вслед за ним то же происходит с Цинциннатом. Вспомним еще раз первые, подсказанные автором, строки в четвертой главе: «Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинциннат…» (IV, 71), и ответ Цинцинната на этот вызов: «Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска, — что мне делать с тобой, с собой?» (IV, 74). Что же делает автор? Чтобы развеять тоску, сочиняет свой мир и начинает играть в человечки.
Если здесь провести параллель с гностическим мифом, роль автора в мире-романе совпадет с ролью демиурга, архонта; следовательно, тюрьма, «мертвый дом», созданный в романе, — это сама книга «Приглашение на казнь». В ней заключен Цинциннат, и его бунт — бунт гностика, усомнившегося в подлинности мира, бунт против творения, против демиурга, в котором прозревший Цинциннат обнаружил человеческое существо. «Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд» (IV, 101), а не премудрое око Божие.
В этом контексте заманчивой представляется идея, что добивающийся бессмертия Цинциннат не может умереть, поскольку он только персонаж романа и как таковой никогда не жил, кроме как на страницах книги, в то время как единственное смертное здесь существо — сам автор. Посмотрим, каким образом Цинциннат формулирует эту ехидную шутку. Читая роман «Quercus», Цинциннат
…начинал представлять себе, как автор, человек еще молодой, живущий, говорят, на острове в Северном, что ли, море, сам будет умирать, — и это было так смешно, — что вот когда-нибудь непременно умрет автор, — а смешно было потому, что единственным тут настоящим, реально несомненным была всего лишь смерть, — неизбежность физической смерти автора.
(IV, 121)
{220} 220 Странная улыбка Ганина над телом мертвого поэта в романе «Машенька» не имеет ничего общего с ехидным смехом Цинцинната. Ганин улыбается не смерти Подтягина, а бессмертному бытию поэта, который «все-таки кое-что оставил» (II, 124). Цинциннат смеется над физической смертью автора. Улыбка Ганина — «radiant smile» читателя, читающего бессмертные строки, о которых Набоков пишет в своей книге «Николай Гоголь». Ср. также: «…есть детская улыбка в смерти» (рассказ «Письмо в Россию» в сб. «Возвращение Чорба» — I, 162).
Автор, «человек еще молодой», может быть, — сам Набоков, а «остров в Северном море» находится на той же карте, где и набоковские Зоорландия («Подвиг»), Ultima Thule («Ultima Thule», «Solus Rex»), Зембла («Бледное пламя»). {221} 221 «Мои измышления, мои круги, мои особые острова бесконечно защищены от отчаявшихся читателей» (Nabokov V. Strong Opinions. P. 241).
Цинциннат смеется над физической природой писателя — смертного человека. В романе «Бледное пламя» поэт мнит себя бессмертным и отрицает аристотелевский силлогизм: «…другие смертны, да, / Я — не „другой“: Я буду жить всегда», {222} 222 Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 3. С. 317. (перев. С. Ильина).
а затем его ревнивый комментатор Чарльз Кинбот на цинциннатовский манер замечает, что это «годится разве мальчику в утешение. С течением жизни мы понимаем, что мы-то и есть эти „другие“». {223} 223 Там же. С. 420.
В бунте Цинцинната против тирании творения, против демиургического начала автора-творца можно услышать гностический отзвук 81 (82) псалма. {224} 224 Как известно, гностический концепт архонтов восходит к следующему месту из «Псалтири»: «…вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». (Пс. 81:6–7) Слово, переведенное в русской Библии как «князья», на иврите (archon) означает «ангел Земли» и имеет негативную коннотацию.
Читать дальше