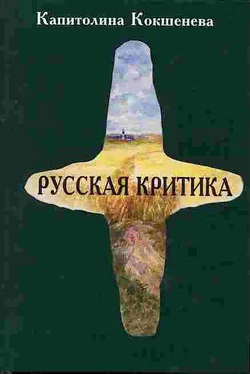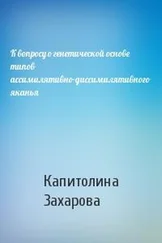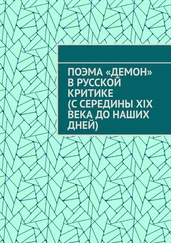Если «Россия все время затыкала творческие вены своего народа страшными тромбами нужды», если в лагерях «сохраняли», как считает Дула, «ненужных обществу» людей-ученых, то находящиеся сегодня на свободе воры и предатели — кем и для чего «сохраняются»? Потому и остается Дула Патрикеевич бессменным стражником крысиных подвалов одряхлевшей истории, но не продавший ее с молотка на нынешнем «пиру во время чумы». Он — свидетель заживо разлагающейся «новой» жизни и не принявший ее. Он — вечный антагонист бесстыдной полезности стране воров и дельцов. Бессилье времени он готов переждать: его пожизненный пост здесь, в Раздолинке, где карцеры, благодаря его пригляду, еще в хорошем состоянии. Он не может умереть, так как именно весь этот страшный нынешний мир помимо его воли постоянно питает его репрессивные силы: «Уж больно много врагов родного народа накопилось. Давно переизбыточна их масса на душу населения, вот что!»; «много работы …в зонах Карагана — в зонах, тоскующих по самым жирным в истории России, по самым холеным и бесстыжим заключенным…».
Не примирить в пространстве одного поколения жертв и палачей, но судьбы потомков жертв уже переплетутся с судьбами потомков палачей. Так русские князья, возросшие при татарском иге, женились на дочерях своих поработителей. Так Дула из сословия карателей останется до конца со своей верностью «Советской Голгофе», узники которой «совершили массовые жертвоприношения во имя светлого будущего»: «И хоть сидит без дела бедный Парикеич, а нынешние укороченные русские жизни сгорают, сгорают, сгорают, в войнах — в нищете — в холоде — на бесприютных просторах бывшего Союза, как никогда прежде. Но уже не обогревают никого на земле своей преждевременной гибелью, ибо останавливаются мартены, и ломаются конверторы, и обваливаются шахты…».
Насилие и свобода в редкое время находят примирение-равновесие. Только надолго ли? «Рим… Новый… Опять…» — этими словами завершится роман. Не случайно в конце романа вновь мелькнет, полыхая кроваво-красным цветом платья бывшая развратница Горюнова — этакая «униженная и оскорбленная» новыми хозяевами жизни Фани Каплан, которая (теперь при «высоком чине») готова со всеми «разобраться» и всем мстить, мстить, мстить. Опять Рим… И нам остается только вспомнить прежде сказанные слова полковника Цахилганова: «Любая чистка освобождает страну от лучших… таков закон истории».
Синкопа и сквозная тема
Завершающее повествование ожидание, предчувствие повторения— «опять… Рим…» — звучит еще и сквозной темой романа, в котором реальность плавится в «доменной печи» художнического, интеллектуального поля Веры Галактионовой, но не для того, чтобы стать бесформенной массой. Она перелита в романе в такие «новые меха», что, не утратив достоверности, вся дышит, звучит и жадно живет в ее пламенеющей прозе. Но нельзя не заметить и встречного беспокойного движения, обозначенного в названии повествования — «5\4 накануне тишины». Какой тишины? Священной и страшной, когда грозой апокалипсиса свернется ход истории? Или это та сосредоточенная тишина, обещающая жесткое отрезвление человеку — когда все сказано, когда «предупреждение» становится буквально последним? Два мощных потока несут и держат толщу романа: уравновешенная сила, которой объяты как мимолетности жизни, так и все упорядоченное, кристальное в человеке и мире, и сила другая, запечатлевающая холодный и жадный переизбыток размера. Пять четвертей.
Пять четвертей — это сбившийся ритм жизни, это насилие синкопы над русской органикой, Синкопы, порождающей «музыкальный продукт приятной духовной дезориентации». Обрубание, сокращение, смещение ритмической опоры в образной ткани романа запечатлено как боль утраты простого и ясного («производство полезного разрушено… вместо этого налаживается всюду лишь производство …вредного»), как горе исчезновения трезвого и радостного, как «туземная-животная-развязная» власть «покупателей человеческого униженья». Синкопа — это когда «жизнью правит нарушение, а не норма». И, кажется, всю жуть образа и его ненормальной власти вложила Вера Галактионова в песню человека-Циклопа (санитара морга): «Это была песня, мучительная, но на удивленье ритмичная, состоящая из гортанного клекота, короткого молчанья, протяжного воя, бессмысленного хрипа и дикого, разрастающегося стона. …он дико пел о том, как искаженная человеческая жизнь перетекает в искаженное инобытие — санитар пел об уготованном аде…И в этой звериной дребезжащей песне не было места слову и душе, но много было простора для застарелого, грубого страха перед бездной антивремени — и вечной тоски, которой исходила земля, приговоренная людьми к безобразным искажениям, тоже стоящей у черты смерти». Философия переизбытков и выпадений коснулась своей ледяной рукой буквально всего в этом повествовании, сместив акцент с сильной доли на слабую. Но в самом начале я говорила, что Вера Галактионова пишет роман-одоленье и тут полагает свою главную большую цель. Ее главный герой Андрей Цахилганов не только восстанавливает правильный размер и ритм в себе самом, но и готов к тому героизму, который «устраняет переизбыточность негодяйства» в России.
Читать дальше