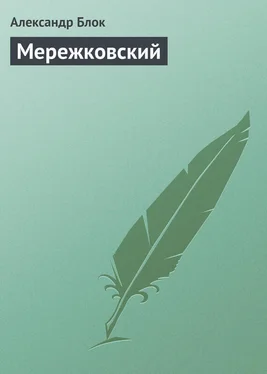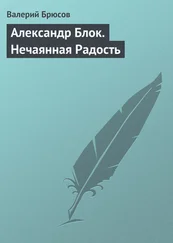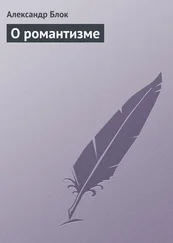Александр Александрович Блок
Мережковский
Когда-то Розанов писал о Мережковском: «Вы не слушайте, что он говорит, а посмотрите, где он стоит». Это замечание очень глубокое; часто приходит оно на память, когда читаешь и перечитываешь Мережковского.
Особенно – последние его книги. Открыв и перелистав их, можно прийти в смятение, в ужас, даже – в негодование. «Бог, Бог, Бог, Христос, Христос, Христос», положительно нет страницы без этих Имен, именно Имен , не с большой, а с огромной буквы написанных – такой огромной, что она все заслоняет, на все бросает свою крестообразную тень, точно вывеска «Какао» или «Угрин» на Загородном, и без нее мертвом, поле, над «холодными волнами» Финского залива, и без нее мертвого.
Кто же автор этих огромных букв и холодных слов? Вероятно, духовное лицо, сытое от благости духовной, все нашедшее, читающее проповедь смирения с огромной кафедры, окруженной эскадроном жандармов с саблями наголо, – нам, «светским» людям, которым и без того тошно? Кто он иначе? Это в двадцатом-то веке, когда мы, как говорят передовые люди, слава богу, наконец становимся атеистами, наконец-то освобождаем окончательно от всякой религии свои «творческие энергии» для возведения Вавилонской башни науки?
Если бы Мережковский действительно был таким духовным лицом, не то в клобуке, не то в немецком кивере, не то с митрополичьим жезлом, не то с саблей наголо, – он бы не возбуждал в нас, светских людях, ничего, кроме презрения, вынужденного молчания или равнодушия. Но в том-то и дело, что он возбуждает в нас еще иные чувства. Он тоже «светский», как будто «наш», хотя и не совсем «наш». Постоянно мы к нему прислушиваемся, постоянно он нас беспокоит, возбуждает в нас злобу, негодование, досаду, радость какую-то, какую-то печаль иногда. Но, будучи тончайшим художником, он волнует нас меньше, чем некоторые другие, менее совершенные художники современности. Будучи большим критиком, даже как будто начинателем нового метода критики в России, он не исполняет нас духом пытливости, он сам не исполнен пафосом научного исследования. При всей культурности, при всей образованности, по которым среди современных художников слова, пожалуй, не найти ему равного, – есть в его душе какой-то темный угол, в который не проникли лучи культуры и науки. В этом углу – все темно, просто и, может быть, по-мужицки – жутко. Может быть, в этот угол проникает какой-нибудь другой свет? Мережковский своими речами и книгами часто заставляет нас думать так. Часто, но не всегда.
В последнее время особенно неотступно вопрошают Мережковского, в чем его вера? Ясно, есть уже люди, которых влечет задавать эти вопросы не простое любопытство. Уже никого не удовлетворяет «отсылание к пятнадцати томам сочинений»; и когда Мережковский молчит в ответ на прямые вопросы, всё больше негодуют на него, иногда – святым негодованием; негодуют уже не литераторы, которые все равно редко способны понимать друг друга, а просто люди бескорыстные, которым нужен ответ не для статьи, а для жизни.
Не потому ли молчит Мережковский, что Имя, Которое он знает, и дело, которому он служит, уходят корнями в тихую темноту, в тот угол его души, где все слишком просто и безглагольно?
Не знаю, почему многие не хотят верить – или, точнее, хотят не верить – Мережковскому. Такова, должно быть, привычка к озлобленному скептицизму. Скептицизм ко всему, что «не мое», ужасно легок; а вот если представить себе, что тихое «дело» свое Мережковский делает в момент почти полного торжества совершенно иных дел, среди людей ему враждебных, в политическом центре России, под свист и ненависть со всех сторон, – придется призадуматься. Какая уж тут «корысть», когда Мережковский своей деятельностью только множит врагов и мало приобретает друзей? Не верить ему во что бы то ни стало очень легко, потому что в таком случае, кажется, можно сохранить мир со всеми. Оставив совершенно этот легкомысленный и ребяческий прием «доверия» или «недоверия» к писателю, который написал пятнадцать томов и «известен в Европе», придется стать с Мережковским лицом к лицу, вчитаться в него, а это совсем не так легко.
Поскольку Мережковский моден, постольку публика читает его романы и ломится в религиозно-философские собрания. Очень многим кажется, что он красиво пишет и говорит, и почти никому не приходит в голову, что он тоже человек и что у него тоже есть натруженная и переболевшая многими сомнениями душа. Все слышали о «двух безднах», и почти никто не замечает этих двух бездн в нем самом.
Читать дальше