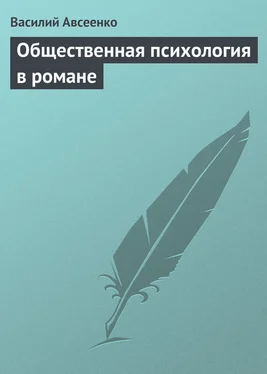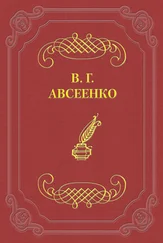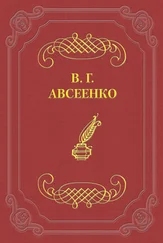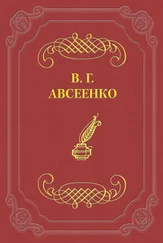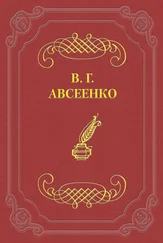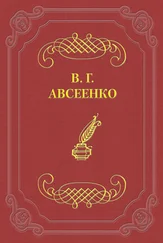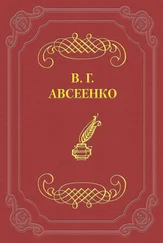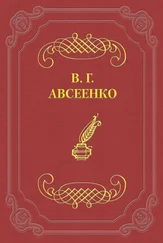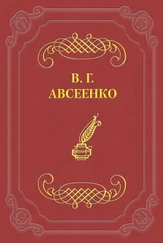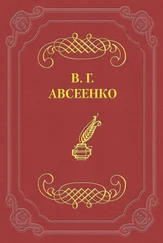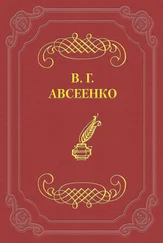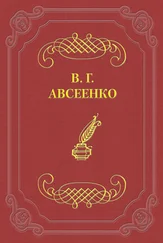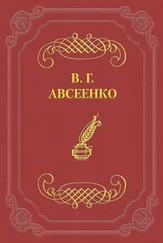Дойдя до этой точки, больная мысль Петра Степановича уже ни пред чем не останавливается. Он понимает, что современный порядок создан именно тем творящим фактором, который он называет присутствием в человеческом обществе высших способностей. Следовательно, прежде всего надо устроиться таким образом, чтобы в новом обществе этим высшим способностям не было места. Мысль его доходит до сатурналии, до беснования. «Не надо образования, довольно науки! – восклицает он. – И без науки хватит материалу на тысячу лет… Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим во младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство… Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое…»
Это очень похоже на бред сумасшедшего, но и сумасшедшие в фантастических построениях своей мысли отправляются от известных данных, которые они принимают за положительные. Петр Степанович тоже наблюдает данные; он чувствует, что в воздухе носится нечто чадное, пьяное, какая-то беспринципность, какой-то «беспорядок умов». Он находит, что время близится, что почва достаточно подготовлена. В шутку, подсмеиваясь над легковерием «знаменитого писателя» Кармазинова, создавшего себе, из своего прекрасного далека, фантастическое представление о положении дел в России, Петр Степанович уверяет его, что все кончится к Покрову; но, подсмеиваясь над Кармазиновым, он и сам наполовину верит своей шутке.
«Знаете ли (говорит он Ставрогину), что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха! Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Прокурор, трепещущий и в суде, что он недостаточно либерален, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают. С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты; у наставников раздавлен пузырь с желчью, везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский; неслыханный… Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: „двести розог, или тащи ведро“. О, дайте взрасти поколению! Жаль только, что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали!»
Мы заранее отклоняем всякое обвинение в преднамеренной группировке психологических и общественных наблюдений, какими богат роман г. Достоевского; мы не делаем никаких аналогий и обобщений и остерегаемся всяких посылок к нашему времени и к нашему современному положению. Вопрос о злокачественности и распространенности в нашем обществе психической болезни, наблюдаемой в романе, стоит совершенно в стороне от целей настоящей статьи. Существование болезни, естественно, предполагает существование общих причин, из которых она возникает, и среды, в которой она вербует свои жертвы; но среда хотя и несет ответственность за выделяемые ею болезненные анормальности, еще не должна считаться зараженною. Тем не менее связь между отдельными явлениями и общими признаками времени непременно существует, и в этом, конечно, смысле следует понимать все те обобщения, какие читатель найдет в романе г. Достоевского.
Мы указали в начале нашей статьи самое крупное, самое существенное из таких обобщений. «Видите, это точь-в-точь как наша Россия, – говорит в заключение романа старый, умирающий, невинный бес Степан Трофимович. – Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!»
Верно ли это? Действительно ли тот психологический недуг, который с таким мастерством анализировал автор в лице многочисленных героев его романа, представляет преобладающий недуг нашего времени и нашего общества? Действительно ли эти и не другие бесы живут в нашем общественном стаде?
Читать дальше