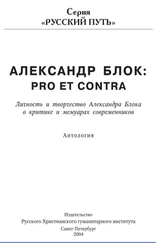Юрий Верховский-несомненный «модернист» и несомненный «символист» в этих ничего не говорящих смыслах слова. Как же: ведь первую книжку стихов его («Разные стихотворения», 1908 г.) выпустило «декадентское» издательство «Скорпион», и в книжке этой можно найти сколько угодно «модернизма»: свободные рифмы, диссонансы и многое тому подобное. А вторая книжка стихов «Идиллии и элегии» (1910 г.) вышла в «символическом» издательстве «Оры», рядом с книгами Вячеслава Иванова и иных ему подобных. Вероятно, только по этим причинам Юрий Верховский, этот старосветский и весь живущий в прошлом поэт, зачислен в стан «модернизма»; вероятно, только по этим причинам Юрин Верховский, совершенно чуждый по своему душевному строю «символизма», считается до сих пор в рядах «символистов», с которыми у него общего почти ничего нет.
В первых своих стихотворениях Ю. Верховский, действительно, пытался идти по дороге чисто внешних технических завоеваний и новшеств. Вслед за В. Брюсовым он пробовал рифмовать «мужские» рифмы с «женскими», пробовал разные приемы ассонансов и диссонирующих рифм; кое-что в этих попытках было интересно, но не Бог весть какого поэтического достоинства. Ибо никакие ассонансы и диссонансы не искупят бессилия штампованных образов, — как, например, к первом же стихе творении первой книги Ю. Верховского:
За деревьями-плачущий месяц,
За туманами-нежная даль,
А в душе-властно-нежащих песен
Безмятежно-жемчужная гладь…
Все эти «пиитические хитрости», все эти вольные «согласные» рифмы: «месяц-песен», «даль-гладь», «тело-прошелестел», «фонарь-не верь», «город-горд», «ветер-Питер»-все они могут быть интересны, занимательны, поучительны, но от этого стихи не делаются еще поэзией, а версификатор еще не делается поэтом. Не «диссонанс» ему надо найти, а поэтический образ, не «согласную» рифму ему надо отыскать, а самого себя.
Как совершал этот путь Юрий Верховский, легко проследить по двум книгам его стихов (а также и по позднейшим стихотворениям, рассеянным в разных изданиях). Сперва это был путь подражания всем «старшим богатырям» декадентства. Ибо-
Светлое имя твое
Не овеется мрачностью;
Нежное имя твое
Сочеталось с Прозрачностью, —
— разве это не В. Брюсов? А такие характерные строки, как
Тишина. Темнота. Их полет.
То-она; это-та. Дождь идет, —
— разве это не Бальмонт? Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Александр Блок — то и дело встречаются читателю на страницах первой книги стихов Ю. Верховского (например, стихотворения «Милый рыцарь», «Гимны», «Сонеты» и др.). Но чем дальше он шел, тем дальше уходил от Андрея Белого и Вячеслава Иванова-к Тютчеву, от Александра Блока- к Фету. И затем все дальше, все дальше-к Майкову, Языкову, Боратынскому, кн. Вяземскому, Дельвигу, к поэтам пушкинской эпохи. Здесь, в этой «старинности»-весь fine fleur его «модернизма», на этом пути он нашел самого себя, душу своей поэзии.
Это не «стилизация», не условное принятие внешних форм художников слова старых времен: это-проникновение в душу их творчества, соединение из них в одно целое того, что свойственно душе поэта. Когда Ю. Верховский очень удачно и искусно имитирует Языкова-
Мимолетные, живые
Поцелуи огневые,
Чарователи мои!
— или когда он по-языковски «воспевает» своих друзей: «безудержно-молодая, резво-буйная, хмельная, развеселая семья!», — то это лишь милая «стилизация», за последние годы всем набившая оскомину. И когда Ю. Верховский не менее удачно воскрешает подражания Парни в лицейских стихотворениях Пушкина («Так говорила Самой себе Пастушка Лила, К своей судьбе Взывая тщетно…»), то это очень мило, иной раз сделано с большим умением, но не идет дальше формы, дальше внешнего искусства. Но подлинная, живая поэзия начинает звучать в этом «старинном», когда поэт вкладывает душу свою в эти старые формы. Вот, например, стихотворение «Пастух»:
Как задымится луг в вечерних теплых росах,
Отдохновительно кладу я гнутый посох,
Заботливый пастух-найти невольно рад
Усладу краткую среди затихших стад.
Меж тем, как на огне варится ранний ужин.
Здесь обретаю я, с Каменой сладко дружен,
Цевницу мирную на лоне тишины,
И звуки томные, медлительно слышны,
Покой души поют, поют любовь и Хлою;
А ласковая ночь и медом, и смолою,
Цветами и дымком забытого огня —
И вдохновением повеет на меня.
Пусть это написано в старых майковских-в старых пушкинских- формах; что до этого, раз чувство поэта искренне и свежо выливается в этих «медлительных» и «пленительных» строках? И таких строк не мало у Ю. Верховского: в «старинном» он часто находит самого себя, душу своей поэзии, сущность ее: эту сущность лучше всего охарактеризовать словами самого поэта:
Читать дальше