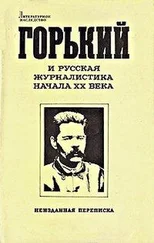Три-это все-таки не одиночество; есть возможность спрятаться за «мы». Достоевский не сознавал, — говорит в одном месте Д. Мережковский, — что чорт есть начало серединное: «если-бы он это сознал, то был бы весь наш, а таков как теперь, он только почти наш, хотя мы и надеемся, что… будет совсем наш»… С каким упоением повторяет он здесь «наш, наш, наш»: видите, он не один так думает, он не один так верит, есть какое-то коллективное «мы», от лица которого он в праве говорить… Какое это утешение для одинокого в своей мертвенности человека! Какое счастье хоть словесно слить себя с живыми людьми и сказать: «я-член образованного русского общества… По мне можно судить если не о всех, то о множестве подобных мне» (XVII, 120).
Какое это удовольствие говорить «о нас всех»-верующих и думающих одинаково с Д. Мережковским: «сказанное мною принадлежат не мне одному, а нам всем, идущим от церкви Петровой к церкви Иоанновой» (XIV, 50; ср. XIII, 181); или: «говорю не от себя одного, но и от многих» (XVII, 312). Или еще: «религиозной работе посвящена моя- наша жизнь» (XIII, 169). В этом намеренном подчеркивании-какая радость души, осужденной на одиночество мертвого среди живых! И как подчеркивает он это «мы, мы, мы», — хотя бы это «мы» было всего один, два, три-и обчелся. И хотя «в этом троичном символе, 1, 2, 3 есть таинственная, неодолимая сила и власть», однако, как радуется Д. Мережковский, когда ему удается хоть на преходящее мгновение залучить в эту троицу («трое нас, трое вас, помилуй нас»…) кого-нибудь четвертого… Как он радуется: «вот уже в литературе я не один. Вы со мною? Или, может быть, я с Вами? Не все-ли равно? Главное-мы вместе. Вы полюбили не меня, а мое. Это великая радость. Ибо для меня литература — вторая жизнь, не менее глубокая, чем первая»… (XIII, 164). Но если литература его есть мертвое мастерство, то и «первая» его жизнь является только истоком его литературной мертвенности.
Трое их, четверо или хоть в сто раз больше-ничем не спастись Д. Мережковскому от одиночества мертвого среди живых. «Мы бесконечно одиноки»; «одиноки теперь мы все» (II, 65, 118) — пусть Д. Мережковский подчеркивает это «мы», — он все-же говорит только о самом себе. И опять-таки только о себе самом говорит он, думая, что говорит вообще о человеке:
Ты, бедный человек,
В любви, и в дружбе и во всем
Один, один навек!.. (II, 209).
Это вечная его судьба. Он кричит-от него отходят, он пророчествует-его не слушают, он проповедует новую религию-и остается пастырем без стада. Вечное одиночество. Иногда он не выдерживает, он «вопит», как раненый зверь: «лучше быть шутом гороховым, чем современным пророком. Лучше бить камни для мостовой, чем называться учителем»… (XVIII, 201). Иногда он сам открывает-себе и другим-причины своего одиночества, но потом, с вечной скукой в душе, снова начинает свою проповедь в пустыне. Кое-чего он этой проповедью достиг: он добился славы, стал известен европейской читающей публике-ей он пришелся более по плечу, чем Толстой или Достоевский, которых в Европе почти никто не понимает, которых даже знают только в отвратительных переводах-переделках. Даже в России-мы видели-кое-кто из услужливых рецензентов возложил на него после смерти Л. Толстого царский венец. И в результате-все то-же мертвенное одиночество. Когда-то он был одинок и видел на себе венец забвенья:
Сладок мне венец забвенья темный.
Посреди ликующих глупцов,
Я иду, отверженный, бездомный
И бедней последних бедняков… (III, 6).
Теперь на него возлагают царский венец-и в нем еще более жалким является этот пастырь без стада, вечно одинокий человек, мертвый среди живых:-
И жалок сам себе в короне золотой,
Я, призрачный монарх-над призрачной толпой… (II, 331).
И теперь для нас уже понятно, почему таким кощунственным является возведение Д. Мережковского на трон Толстого, почему таким невыносимым явилось бы сопоставление его с Толстым, как художником. Тут дело не в величине дарований: конечно, смешно сравнивать в этом отношении «Трилогию» Д. Мережковского с «Войной и миром» Л. Толстого; но даже если бы такое сравнение было возможно, если бы мертвое мастерство Д. Мережковского могло быть сравниваемо по размеру с живым творчеством Л. Толстого, то все-же сравнение это сделалось бы тем кощунственнее. Дело тут не в количестве, а в качестве, не в размере, а в сущности дарования: мертвое мастерство и живое творчество несоизмеримы, приравнивать мертвое живому-кощунственно… Не великое и малое, а живое и мертвое- вот основной контраст между великим писателем земли русской и великим мертвецом русской литературы.
Читать дальше