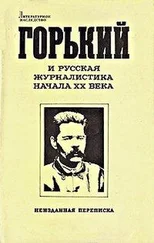Я хочу, но не в силах любить я людей:
Я чужой среди них; сердцу ближе друзей —
Звезды, небо, холодная, синяя даль…
И мне страшно всю жизнь не любить никого.
Неужели навек мое сердце мертво?
Дай мне силу, Господь, моих братьев любить! (I, 21).
Как видите, сам Д. Мережковский хотел бы растопить эту ледяную кору, войти в жизнь, но дар жизни, как и пророческий дар, не берется. Правда, можно ненавидеть людей и быть живым человеком: вспомним Лермонтова, вспомним Байрона. Но, во-первых, только нравственно глухой, только душевно слепой может не заметить великой любви в великой ненависти Байрона или Лермонтова, а во-вторых, эти люди великого гнева не считали, не провозглашали себя проповедниками учения Христа. Именем Христовым, употребляемым всуе, пестрят все книги Д. Мережковского; но если Христос есть действительно Вечная Любовь, — то это именно то самое слово, которого не дано сложить Д. Мережковскому. Не любовь и не ненависть, а холодное безразличие к людям под маскою любви, — вот удел Д. Мережковского.
Так было с самого начала, так это продолжается и до сих пор, в течение тридцати лет литературной деятельности этого писателя. Характерно: еще в первом стихотворении первой книги Д. Мережковского мы находим настойчивые самоубеждения автора: «не презирай людей!.. Войди в толпу людей и оглянись вокруг!.. Сочувствуй горячо их радостям и бедам, узнай и полюби»… (I, 7). Но тут-же поэт чувствует, что все эти самоубеждения бессильны, напрасны, тщетны, что не удастся ему взвинтить себя до пафоса любви к людям, любви к человеку. Любить «весь род людей во мгле веков» (I, 19) — это еще куда ни шло, да это и не трудно; но любить живого человека!.. И поэт откровенно сознается в своем бессилии:
Могу любить я все народы,
Но людям нужно от меня,
Чтобы в толпе их беспредельной
Под небом пасмурного дня
Любил я каждого отдельно, —
И кто-бы ни был предо мной,
Ничтожный шут, или калека,
Чтоб я нашел в нем человека…
Не мне бессильною душой
Не мне принять с венцом терновым
Такое бремя тяжких уз…. (I, 20).
Приведенные стихотворения относятся к началу и середине восьмидесятых годов, и с тех пор вот уже тридцать лет повторяет Д. Мережковский эти мотивы с упорной безнадежностью. То он признается: «я людям чужд» и просит небо, чтобы оно дало ему быть «лучезарным, и бесстрастным, и всеобъемлющим»… (III, 23); то он заявляет: «полно мое сердце такого бесстрастья, что любить на земле никого не могу» (III, 70); то огорчается, что на земле «душа должна любить и покоряться вечно»; то мечтает, стоя на холодных альпийских вершинах: «о если-б от людей уйти сюда навеки»… (III, 72); то еще раз сознается:
Пред собою лгать обидно:
Не люблю я никого… (III, 79);
то рассказывает нам, как даже в детстве «не людей бесконечной любовью-я Бога любил и себя, как одно» (IV, 69). Иногда он готов молить Бога о ниспослании ему этой любви к людям: «о, дай мне чистую любовь, о, дай мне слезы умиленья!» (III, 44), но тут же он молится и о другом: «очисти душу мне от праха, избавь, о Боже, от любви!» (III, 38). И снова перед нами-заключительное сознание человека, лишенного снособности любить людей и даже страдающего от этого:
О, если бы душа полна была любовью,
Как Бог мой на кресте — я умер бы любя.
Но ближних не люблю, как не люблю себя,
И все-таки порой исходит сердце кровью… (IV, 67).
Все это очень и очень верно. Вот только разве одно: кровью-ли исходит сердце Д. Мережковского?
Христос, распятый на кресте, «прободен бысть» и истекал кровью; так истекает кровью сердце каждого, кто носит в душе великую любовь к людям и видит все горе человеческое, — и много на свете таких крестовых сестер и братьев. О, как хотел бы, наверное. Д. Мережковский приобщиться к этому человеческому страданию и тем самым подойти ко Христу, имя которого он может только употреблять всуе! Нет Христа там где нет любви; и участь Д. Мережковского-истекать не кровью, а словами. В этом-трагедия всей его деятельности. И эта бесплодная слово точивость, которою Д. Мережковский тщетно пытается «заговорить», обмануть сам себя-очень характерна для человека с оледеневшим сердцем: именно в такую форму «словоточивости» только и может вылиться мертвое мастерство ледяного Кая. Как говорит в романе Д. Мережковского римский эрудит Гаргилиан-«litterarum intemperantia laboramus»… Мы страдаем от словесной невоздержанности. Да, да, вот наше горе… Опять спрошу: думал-ли Д. Мережковский, что и здесь он говорит о самом себе? Быть может думал, быть может сознавал; по крайней мере в одной из позднейших статей он чистосердечно признает: «мы все-эпигоны, последыши, александрийцы; слово для слова, а не для дела-вот наша бледная немочь» (XVIII, 22).
Читать дальше