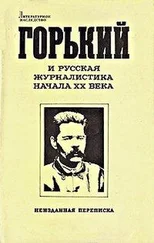Конечно, не всякий охотник может в это царство проникнуть, и наоборот, не всякий обитатель этого царства непременно охотник. Если мы, вслед за автором, остановились на «охоте», то только потому, что при этом простом примере яснее всего выступает надпись над вратами этого царства, этого храма природы, «ни в чем греха нет», — вот возглас, который раздается всюду на богослужении природы, на литургии Великому Пану. И конечно, не в одной охоте тут дело, а в умении всюду слышать и всегда слушать этот голос, этот призыв. Слышен этот голос-и понятна, и оправдана для М. Пришвина вся жизнь земная, вся жизнь человеческая; заглох, умолк этот голос-и все ненужно, все непонятно. Интересно следить за автором, когда он из лесов и пустынь попадает в гущу европейской цивилизации, из дебрей Лапландии и Мурмана-в трудовую мещанскую Норвегию. «Ясен и прост кажется теперь этот смысл человеческой жизни, направленной по твердой колее упорного будничного труда» (II, 285). Но ясно, что эту твердую колею рад покинуть наш путник для бездорожья лесов и степей, для общей жизни с природой. Жив Великий Пан-и только к нему тяготеет язычник-автор. И даже в Норвегии он прежде всего заметил не культуру, не человеческий труд, а землю, деревья, листья… «Путешествие с севера на юг Норвегии-это прежде всего радость от встречи с зеленой землей. Хорошо на небесах, но на земле куда, куда лучше»… (II, 290). На небе, быть может, есть Бог, но на земле наверное жив Великий Пан-это М. Пришвин знает, видит, переживает; обедня под сводами церкви его не трогает, но в богослужении под шатром неба-сам он действующее лицо.
Я не затронул здесь и десятой части содержания «Волшебного колобка»; мне хотелось только наметить существенное, только намекнуть на настроение, на впечатление от этой воистину живой книги. Живой-и потому ярко художественной. Сколько цельных и тонко очерченных типов в этой книге-монахи, лопари, морские волки, поморы, норвежцы, — всех не перечесть. Одни монахи чего стоят! Но монахи стоят несколько особняком: они уже развращены тепличной культурой, почти все они в масках наружного смирения и елейных улыбочек. Все остальные герои М. Пришвина, проходящие перед нами «за волшебным колобком», все они-люди примитивные, стихийные, и именно этим дорогие и близкие автору. Но какое богатство индивидуальностей, несмотря на общность типа! Здесь М. Пришвин показывает себя истинным художником.
Отмечу кстати, что этот общий тип в высшей степени характерен для всего творчества этого автора. Когда М. Пришвин записал в своем дневнике между прочим: «я размышлял о примитивной стихийной душе, какою она выходит из рук Бога» (II, 75), то он, быть может, и не подозревал, что формулирует этими словами свою постоянную тему, тему всего своего творчества. Примитивная стихийная душа — мы еще увидим, что именно таковы герои художественного творчества М. Пришвина., быть может, во исполнение известной поговорки: tel maНtre-tel valet, tel peintre-tel portrait… Ибо из всех книг М. Пришвина перед нами ярко обрисовывается примитивная, стихийная душа самого автора: примитивная-в смысле «лукавого мудрствования» и сложнейшая в смысле глубины, силы и оттенков чувствования и переживания. И именно потому так тянет его к Великому Пану-к великой, примитивной и стихийной мировой душе. И именно потому примитивностью стихийной жизни переполнена вся его книга: все живет в ней-люди, звери, пустыня, море, леса, ибо воистину для автора жив Великий Пан.
IV.
И все-таки остается какая-то мертвая черная точка, которую не может осветить автор, которую не может оживить Великий Язычник. Это, разумеется, — черная «заруделая» икона старого письма; это-другое, противоположное мировоззрение, враждебное светлому Великому Пану. Это враждебное-«свет миру», «солнечная гора»; но для нашего автора оно окрашено в черный цвет.
«Черные водоросли хрустят под ногами… И пахнет чем-то не живым, мертвым. Мне начинает чудиться, что наверху той солнечной горы, куда я стремлюсь, нет жизни… Вместо радостного, знакомого мне, охотнику, солнечного бога, которого не нужно называть, который сам приходит и веселит, я чувствую, другой какой-то черный бог требует своего названия, выражения. Мгновенье-и я назову его, и то, и что лежит где-то темным бременем, станет легко и свободно. Но в самый решительный момент мне становится ясно, что если я сделаю так, то от чего-то ценнейшего в мире нужно отказаться без остатка, бросить даже это ружье и идти черной тропой, опустивши голову вниз. Я протестую, и черный бог остается без выражения…» (II, 41–42).
Читать дальше