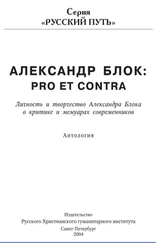«На шершавом, потном небе околевает, вздрагивая, закат. Пришла ночь; пирует Мамаем, задом на город насев. Улица, провалившаяся, как нос сифилитика, заклубилась, визжа и ржа, а сады похабно развалились на берегу реки-сладострастья, растекшегося в слюни».
Вот картина ночи по В. Маяковскому, типичному поэту современного Города. И нельзя отказать поэту в силе многих образов; по сравнению с ним многие и многие из его собратьев по «святому ремеслу»- «серенькие, чирикают, как перепелы», треплют старые образы, перепевают старые образцы, гибнут в болоте, — как погиб, например, засосанный внутренней и внешней пошлой «цыганщиной», несомненно талантливый Игорь Северянин.
Но вот другие образы поэта Земли; прислушайтесь-разве меньше в них силы и смелости? О прочем я уже и не говорю: слишком неравны здесь условия борьбы временного, преходящего футуризма и вечной поэзии мира. Ибо Город-только этап ХХ-го века в крестном пути человечества. Так вот:
«Осень, рыжая кобыла, чешет гриву. Над речным покровом берегов слышен синий лязг ее подков». «Солнце, как кошка, с небесной вербы, лапкою золотою трогает мои волоса». «Пляшет, сняв порты, златоколенный дождь». «Отелившееся небо лижет красного телка». «Изба-старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины». «Пляшет сумрак в галочьей тревоге, согнув луну в пастушеский рожок» (С. Есенин).
А теперь-пусть откликнется ваша душа: где она? На берегу-ли реки, «сладострастно растекшейся в слюни», или на берегу другой реки, где
Вечер, свесившись над речкою, полощет
Водою белой пальцы синих ног…
Но не в том вопрос, с кем наша душа, вопрос в том-с кем Россия, с кем будущее. И поэт Земли отвечает на это поэту Машины:
Маяковскому грезится гудок над Зимним,
А мне-журавлиный перелет и кот на лежанке:
Брат мой несчастный, будь гостеприимным —
За окном лесные сумерки, совиные зарянки.
………………………………………………
Иглокожим, головоногим претит смоль и черника,
Тетеревиные токи в дремучих строчках;
Свете Тихий от народного лика
Опочил на моих запятых и точках.
«Простой, как мычание» и «Облаком в штанах» казинетовых
Не станет Россия, — так вещает изба.
От мереж осетровых и кетовых
Всплеска рифм и стихов ворожба.
Песнотворцу-ль радеть о кранах подъемных,
Прикармливать воронов-стоны молота!
Только в думах. поддонных, в сердечных домнах
Выплавится жизни багряное золото…
(Н. Клюев).
Поэт, конечно, прав-и его земляные «поддонные думы» безмерно глубже истошного орева духовно-плоского футуризма; но за последним, независимо от воли его, стоит другая правда-правда усложняющейся жизни Города. Две правды, две мистерии-надо-ль нам бесповоротно осудить одну, возвеличить другую?
Прежде, в XIX веке, выбор был слишком прост. Еще не было города-были большие деревни; еще не была противопоставлена душа Человека и Машины. Сказали бы вы Тютчеву о том, что вселенная есть только «путаница штепселей, рычагов и ручек»!.. На утверждение: «мир есть механизм», он уже дал уничтожающий ответ тогдашним «людям города»:
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!
И, языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза.
Не их вина!
Не их вина-мы видели это; но их беда-ибо мир Земли навсегда закрыт от их взора. Или, вернее: он открыт им только с улицы Города, где не солнце золотой лапкой с небесной вербы тянет клубок лучей, а пьяный небесный маляр «обсасывает лучи в спячке». Они чуют зато свою «городскую» правду-о Машине, правду, которая неведома была в XIX веке, в эпоху Тютчева. Они чуют: под «небесную вербу» человечество придет только через Машину, через Город, не упрощением, а усложнением жизни. И в этом-бессознательная правда футуризма. И в этом-отражение в искусстве глубокого социального (и еще более глубокого!) сдвига мира.
Две «мистерии» перед нами, и надо суметь приобщиться к обоим: за «адищем Города» увидеть рай Города, за раем Деревни-ад деревни. Две правды перед нами, и надо суметь принять обе: правду нерукотворенной Земли и правду сотворенной человеком Вещи, зная, что лишь через вторую перейдет человечество к первой. Но для этого надо не покориться машинной «вещи», а покорить ее: в этом-задача грядущей культуры. Задача эта будет решена, когда все человечество, когда человек грядущего (а не одинокий его предтеча, Заратустра) твердо повторит последние слова: «я-верхом на вещи!».
Читать дальше