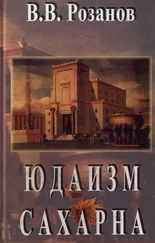«Власти предержащие» в искусстве — это Шекспир и Гёте. Вспомним толстовское: «ничего нет скучнее Гёте», «пьесы Шекспира — это сумбур». Это — «писаревщина».
«Власть предержащая» — это наши попы. Ну, да: деревенская литургия. «Слушай!» — орет она на весь мир. Толстой ответил: «Не хочу слушать». Это — Чернышевский.
«Власть предержащая» — это судебный следователь своего уезда; «суд», какой он ни на есть, ну, там — «кустарный суд». И — «г. губернатор». Знаю, знаю — полны несовершенства. Но ведь и я несовершенен, и Толстой все-таки имел грехи. И скромность указывала бы ему «все осуждать», «все критиковать», но, однако, на сегодня — «повиноваться всему», всем этим, в сущности, «властям предержащим», от Шекспира до господина исправника. Что делать, не ангелы живут на земле. Вот этого смирения, к которому Обязаны все, от царя до последнего подданного, не было вовсе у Толстого. И нельзя не заметить, что здесь, в сердцевине, лежало черное я, лежал моральный эгоизм, страстно патетический и, однако, безумно грешный. «Сютаевым» или «Платоном Каратаевым» Толстой был за чайным столом, за обедом, вообще дома и в домашнем быту: ну, а в делах своих и большой судьбы, в больших шагах своей биографии, он был тот хищный и властный Долохов, который безжалостно ремизит Николая Ростова. «Что же, ты в любви счастлив, потерпи в картах».
Но слаще и мудрее было бы нам увидеть Платона Каратаева не за кусочком сахара, который он смиренно обгрызает и остаточек кладет на дно опрокинутой чашки, — а увидеть в критике христианства и государства.
Страхов пытался стать на толстовские пути «личного усовершенствования», — но несколько лениво… И в том было его спасение: он не ковырнулся через голову в близлежащую яму. «Ваши упреки, — пишет Страхов Толстому, — смущают меня перед вами и тревожат мою совесть постоянно. Почему я понимаю ваши чувства, но не разделяю их? (Курсив Стр-ва.) Буду говорить, как на исповеди. Потому что у меня нет такой силы чувств, как у вас; не хочу я насиловать себя или прикидываться, а где же я возьму ту беззаветность, ту горячность, с которою вы чувствуете, которою озарено ваше сердце?»
Тут не совсем точен Страхов в отношении самого себя. «Старый нигилизм», известный ему с 1845 года по личным впечатлениям, и петербургских болтающих людей — он ненавидел достаточно «горячо». Но он чувствовал себя как-то пассивным в отношении моральных требований Толстого «воздерживаться от пороков»… «Пороки Страхова» могут вызвать только улыбку: всю жизнь учился, читал, изучал книги по биологии, по философии, по критике и эстетике и всю жизнь был беден и скромен, тих и застенчив. Врожденный «Платон Каратаев» науки, он просто ничего не чувствовал перед лицом требований Сютаева или Толстого, которые могли поразить только и вызвать бурю борьбы с собою у страстного и хищного «Долохова»…
«Будьте снисходительны ко мне, — молит кроткий Страхов, — не отталкивайте меня из-за разницы. Ваше отвращение к миру, — я его знаю, потому что сам испытывал его и испытываю, но испытываю в той легкой степени, в которой оно не душит и не мучит (курс, мой); но и привязанности к миру у меня никакой нет, если же есть какая, то я стараюсь теперь уничтожить ее, оборвать последние ниточки. Не имея положительных качеств, я решил заботиться об отрицательных. Постоянно я думаю об этом и, мне кажется, сделал некоторые успехи — не буду вам рассказывать, так они еще малы, а может быть, и те обманчивы. На усилия, на крутые повороты я не способен (мой курс. — В.Р.), но знаю, что постоянно держась одной мысли, одного пути, могу дойти до чего-нибудь хорошего. Я стал несравненно спокойнее, чем был, и все благодаря вам и чтению монашеских книг» (мой курс. — В.Р.).
Страхов деликатно и кратко упомянул о «чтении монашеских книг», не давая настойчиво понять «творцу новых мыслей», что, в сущности, указываемый Толстым «новый путь личного самоусовершенствования» — есть старый церковный путь, давно и издревле разрабатываемый в монастырях и для коего там есть не одни «слова, слова и слова», как у Толстого, но и помогающая практическая дисциплина. Страхов как питомец духовной школы, которую он очень уважал, знал это; Толстой как человек барского, графского воспитания, думал, что «творит все новое», начиная со своей «Исповеди» и «Крейцеровой сонаты». Но Страхов-то помнил, и осязательно помнил, что кроме «Исповеди» Толстого и так увлекшей Толстого «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо, — есть и «Исповедь» блаженного Августина. Вообще, в теме «борьбы со страстями и пороками» Страхов был неизмеримо образованнее и начитаннее Толстого, коему казались «новинками», чуть ли не им «открытыми», и Эпиктет, и Марк Аврелий, и «Дневник» Амьеля, и разные изречения китайских и индийских мудрецов. Страхов в немногих словах о «старой науке монахов» как бы прошептал про себя и едва слышно другу: «Знаю. Старо. Испытано. И не всегда действует; но — попытаюсь».
Читать дальше