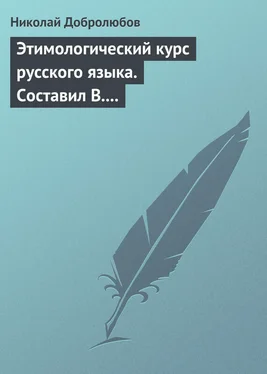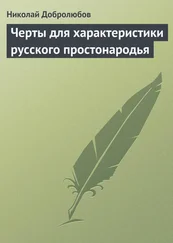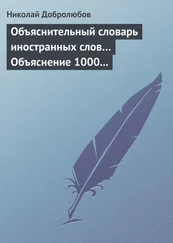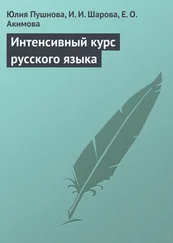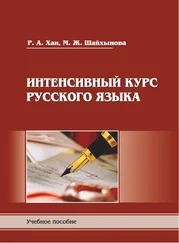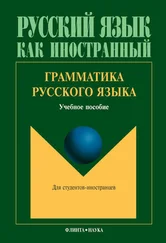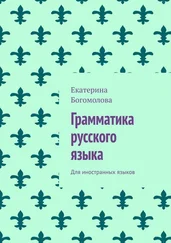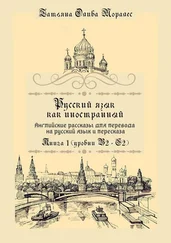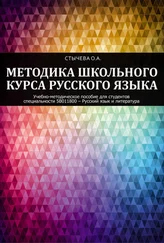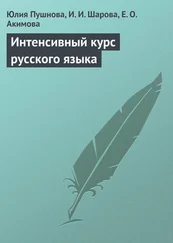Спрашивается: какое впечатление произведет на детей изучение всех подразделений, образований, происхождений и отличий, изложенных в этих двух параграфах? И много ли подвинется знание детьми русского языка, если они всё это выучат?
Нет, по нашему мнению, дети очень много выиграют, если им не попадется в руки курс г. Новаковского: для них он не только бесполезен, но даже может быть вреден не менее грамматики г. Греча. {3}
Но, может быть, г. Новаковский имел в виду составить учебное пособие для неопытных учителей? Может быть; но книга его и в этом смысле оказывается негодною. Во-первых, ее метода, как мы уже сказали, совершенно формальная, и вовсе не желательно, чтоб учителя следовали ей в преподавании русского языка. Во-вторых, обилие повторений и переливаний из пустого в порожнее, которое должно показаться скучным даже для порядочного ученика, тем более излишне и обременительно для учителя. На двухстах страницах толковать учителю, как он должен объяснять детям состав предложения, – это уж слишком многоглаголиво!
От формальности, жертвою которой сделался г. Новаковский, старался, по-видимому, остеречься г. Алейский в своем «Опыте». «Опыт» этот назначается, должно быть, для учеников, уже прошедших первую степень обучения, и потому г. Алейский начинает с так называемых философских объяснений – что слово есть выражение понятия, что речь вообще есть следствие мышления, что познания приобретаются внешними чувствами, кои суть, и пр. Философом г. Алейский оказывается немудрым и вдобавок еще очень высокопарным, как видно, например, из самого начала предисловия:
Бог, создав человека для общежития, даровал ему, по своей благости, две главнейшие способности, отличающие его от прочих существ одушевленных: ум – познавать творца и все, им созданное, или мыслить, и слово – сообщать другим людям свои мысли членораздельными звуками голоса, или говорить.
Как видите, здесь г. Алейский разделяет мысль и слово, как две способности, совершенно независимые одна от другой, извне и отдельно приданные человеку. Но несколько строк ниже он сам же говорит: «Дар слова есть последствие мышления»; «Как органическое произведение духа, проявляющегося в веществе, язык развивается вместе с мыслящею способностью объясняющегося на нем народа», и пр. Здесь уже, стало быть, дар слова признается просто необходимым проявлением мыслящей способности человека, непосредственно с нею связанным, а не отдельною способностью, дарованною… и пр.
При столь шатком понимании самой сущности своего предмета г. Алейский не мог представить слишком светлых и новых соображений относительно философских начал языковедения. Но тем не менее мысль его заслуживает одобрения. Он хотел сообщить ученикам предварительные понятия о различных способностях, требованиях и явлениях духа человеческого, о различных способах познания и о разных родах самих предметов познаваемых – для того чтобы потом уже перейти к изложению законов, по которым в языке происходит выражение наших суждений о предметах. Все это представлено г. Алейским во «Введении», которое нельзя было бы назвать лишним, если бы определения и указания его были составлены с большей последовательностью и правильностью. Но, к сожалению, во «Введении» г. Алейского мы встречаем множество ненужных тонкостей (вроде различения ума и разума, мира небесного, духовного, умственного и нравственного, разрядов, порядков, классов и категорий и т. п.), небрежности, недомолвки и даже просто неверности в определениях. Например, у г. Алейского насчитано четыре царства природы, и к четвертому отнесены стихии; сказано, что «понятия, приобретенные о предметах посредством чувств, называются чувствованиями внешними»; сделано такое замечание: «Хотя некоторые предметы и могут существовать без каких-либо частей, например дом без крыши, дверей; но для других предметов части совершенно необходимы…» и пр. По этим образчикам можно судить, каково вообще философское введение г. Алейского!
Ту же самую неопределенность, небрежность и часто ошибочность находим мы и в собственно грамматических правилах «Опыта» г. Алейского. Притязаний в «Опыте» очень много: научая практическому употреблению языка, он хочет в то же время исчерпать и все филологические таинства. Поэтому в «Опыте» находим: замечания о переходе звуков, об условиях их сочетания, о сочетаемости, выпуске и прибавке их – словом, целую фонетику русского языка в сокращении. Далее – здесь показаны правила производства слов и значение всех суффиксов в существительных и прилагательных; объяснено значение падежей, правила сложения слов, образование степеней сравнения и пр. И все это – надо отдать справедливость г. Алейскому – без излишнего многословия, с редким только увлечением рассуждениями, вовсе к делу не относящимися. Все было бы хорошо, если бы г. Алейский чуть не на каждой странице не говорил того, чего нет, не бывало и быть не может. Писать ли не умел г. Алейский, не знает ли теории своего предмета или просто написал свой «Опыт» сплеча, нисколько не вникая в смысл своих фраз, – этого мы не могли решить наверное. Но в «Опыте» беспрестанно попадаются промахи, очень крупные. Представим несколько примеров.
Читать дальше