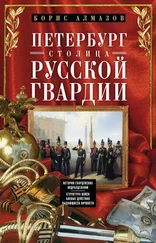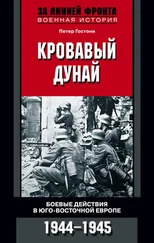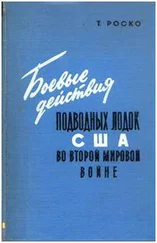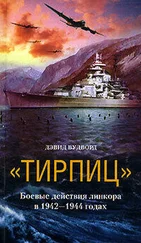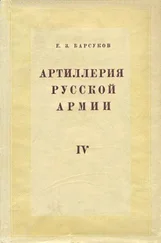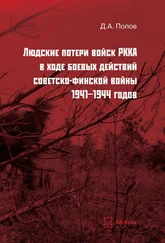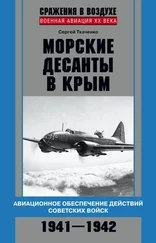Кроме того, японцы просто недооценивали противника. Подполковник Адзума повел свой отряд в ловушку, потому что считал противника слабым. Сходным образом, солдаты 7‑я дивизии, выдвигавшейся к Номонгану, были уверены в легкой победе. Из–за столь предвзятого мнения поражение для японцев было еще более ошеломляющим. Советское же командование, по каким бы то ни было причинам, относилось к японской угрозе очень серьезно, и готово было задействовать все людские и материальные ресурсы, необходимые, чтобы нанести японцам поражение.
Когда японцы в августе перешли к обороне, они оказались вынуждены действовать в доктринальном вакууме. Доктрина японской армии предусматривала оборону позиции только в порядке подготовки к контратаке. Неудивительно, что сначала японские солдаты оборудовали ненадежные убежища, потому что считали, что скоро покинут эти позиции и снова перейдут в наступление. После того, как советская артиллерия разрушила эти убежища, японцы стали окапываться основательнее. Отход от доктрины также повлиял на действия разведки. Японская доктрина, основанная на маневре и внезапности, предполагала, что противник должен быть дезорганизован и лишь реагировать на действия японцев. Нельзя сказать, что японское командование на всех уровнях игнорировало поступающие данные разведки о готовящемся советском наступлении. Но японцы не смогли должным образом оценить эту информацию. Одна из причин этого в следующем: японцы были настолько заняты идеей контрнаступления, что упустили вероятность того, что крупномасштабное советское наступление может просто лишить их возможности контратаковать.
Одно заблуждение японцев вело к другому. Так как они считали советское командование негибким, его тактика представлялась слишком косной, чтобы преодолеть японскую оборону. Таким образом, любое советское наступление должно было закончиться неудачей, после чего японцы смогут контратаковать и разгромить противника. В реальности вышло так, что советские войска продемонстрировали способность адаптироваться, например, в способах защиты своих легких танков, тогда как японцы, напротив, проявили негибкость.
Но и тут не все столь однозначно. Многие советские подразделения, первоначально противостоявшие 2‑му батальону, были невысокого уровня подготовки. Советские 82‑я и 57‑я стрелковые дивизии являлись плохо обученными и поспешно сформированными территориальными соединениями. Их командование совершало много ошибок, а солдаты 603‑го полка 82‑й стрелковой дивизии поддались панике и побежали, в первый раз оказавшись под огнем. Советская тактика была однообразной, повторяющейся — например, безыскусные лобовые атаки и повторения попыток просачивания за позиции японцев, несмотря на неудачные результаты. Такие ошибки укрепляли стереотипное мнение японцев о советских солдатах, и, вероятно, внушили японцам ложное чувство уверенности. Однако сила Красной Армии была в комбинированных действиях разных видов вооруженных сил и родов войск и масштабных общевойсковых операциях, а не действиях отдельных подразделений.
Сильная сторона японской армии, напротив, была в действиях небольших подразделений, в которых и воплощались лучшие примеры японской доктрины. Ночные атаки на уровне взвода или роты, стремление атаковать противника в ближнем бою были отличительными признаками японского пехотинца. Такая тактика действительно была очень успешной в действиях против отдельных советских пехотных подразделений.
Инициатива и отвага были главными компонентами успеха ночных атак, что видно на примере 2‑го батальона 28‑го полка. Офицеры всегда с готовностью шли на риск ближнего боя, рассчитывая на внезапность и психологическое воздействие на противника, чтобы компенсировать его численное превосходство. В действиях 2‑го батальона у Номонгана более чем заметно выражены храбрость и упорство японского пехотинца. Но против советских танков и артиллерии эта храбрость и инициатива представляли лишь ограниченную ценность. Как бы ни были доблестны солдаты, как бы ни были компетентны их офицеры, они не могли преодолеть зону огня советской артиллерии, защищавшей советскую пехоту. Японский солдат просто не мог подойти достаточно близко к противнику, чтобы наилучшим образом использовать свою храбрость и наступательный порыв. Отделение японских пехотинцев могло атаковать советский пехотный взвод в штыковом бою с неплохими шансами на успех, но то же самое отделение было бы быстро уничтожено при попытке атаковать советские танки.
Читать дальше