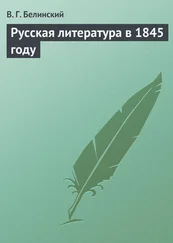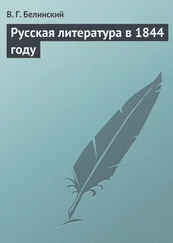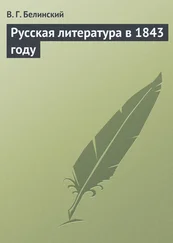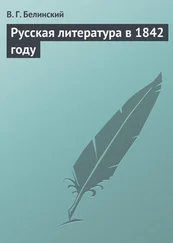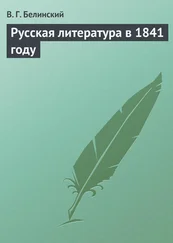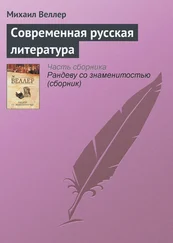Поиск эпопейного со-бытия, то есть гармонии между человеком и миром, определил динамику внутреннего развития и преемственности различных форм эпического романа в 1960 - 1970-е годы. Герой эпоса 1970-х - это человек, осознавший объективную ценность личностного начала. Он вступает в народ не как слуга, а как равнодостойная со всем народом величина. Он не приемлет никаких компромиссов, которые ущемляли бы его потребность в свободном развитии.
Этими препятствиями к свободному самоосуществлению личности в народных эпопеях 1970-х годов, как правило, оказываются идеологические табу и партийные догмы, диктат тоталитарной власти. Против них бунтует Захар Дерюгин из "Судьбы" П. Проскурина, отстаивая свое право на любовь к Маше Поливановой, с ними никак не хочет примириться абрамовский Михаил Пряслин. И в народных эпопеях Проскурина и Абрамова те персонажи, которые несут на своих плечах миссию народных заступников, становятся жертвами партийно-государственных догм: Захара Дерюгина райком снимает с должности председателя колхоза, и великолепный дар хозяина земли пропадает втуне, а Лукашина засаживают в тюрьму, где тот и гибнет. Однако как раз в сопоставлении с партийными и властными нормами обнаруживают свою справедливость все те же "простые законы нравственности", которые были выработаны народом за многие века. Если взглянуть с этой стороны на народные эпопеи 1970-х годов, то они консервативны по своему пафосу, ибо эстетически дискредитируют идеологические мифологемы, претендовавшие в советское время на роль эпических святынь, и восстанавливают авторитет все тех же народных этических представлений, которые еще со времен Гомера выступали в роли высшего эстетического критерия в героических эпопеях.
Но в системе этических координат народных эпопей 1970-х годов не умаляется значимость индивидуального, наоборот, открывается неповторимость каждого из эпических персонажей, высокая ценность личностного начала. И оттого традиционное для героического эпоса утверждение приоритета общенародного над индивидуальным приобретает в народных эпопеях 1970-х годов обостренно трагедийный характер - становится ясно, какие же колоссальные потери несет личность, подчиняясь общенародной необходимости, насколько же обедняет себя человек, отказываясь во имя блага народа от своего счастья, зажимая свою душу в кулак, и как много теряет мир оттого, что эпический герой не реализует свой могучий духовный потенциал.
Все это сильно колеблет мир народной эпопеи, не дает ему обрести завершенность, перейти в область величавого предания, хотя сами авторы всячески пытаются утвердить эпического героя на высоком героическом уровне и закрепить авторитет народного опыта в качестве высшего эталона мудрости земной. Для этого они вводят в текст вставные жанры из арсенала фольклора (героическая легенда о давнем подвиге защитников Смоленска в "Судьбе" П. Проскурина, подглавка "Из жития Евдокии-великомученицы" в абрамовском "Доме", лукавые "лебяжинские сказки" в "Комиссии" С. Залыгина). Эти вставные жанры должны, по замыслу авторов, "заразить" собою весь дискурс: придать ему эпосное звучание, возвысить прозаическую реальность до уровня героического предания, а главное - непосредственно ввести отстоявшийся народный опыт в живую современность в качестве высшей этической инстанции.
И все же такие мутации в той или иной мере позволяли классическому жанру соцреализма сохранять свою жизнестойкость. Когда же в колоссальных масштабах монументальной эпопеи главной мерой вещей остается идеологическая норма, а носителем высшей народной мудрости и одновременно народным заступником предстает партийный чиновник (секретарь рай-, гор- или обкома, а то даже секретарь ЦК), происходит разложение художественного феномена, идет деградация искусства - отсутствие свежей идеи, смелых и новых воззрений на личность и народ оборачивается описательностыо, композиционной рыхлостью, риторикой и натужной монументальностью. Именно этот процесс наблюдается в эпических полотнах, подобных тем, которые создавали Г. Марков ("Сибирь", "Грядущему веку"), А. Иванов ("Вечный зов"), А. Чаковский ("Блокада").
Но тогда же, в 1970-е годы, явилось произведение, которое можно назвать иронической народной эпопеей. Это роман Аркадия Львова "Двор" (1975). История небольшого одесского двора и его обитателей, начиная с семнадцатого года и вплоть до "оттепели", собрала в себе всю историю советского общества. Да и весь дворовый коллектив представляет собой микромодель советского общества - здесь есть свой маленький вождь (Иона Дегтярь, освобожденный парторг фабрики), который, правда, не выдвигает собственные идеологемы, зато старательно пропагандирует то, что написано в газетах и в "Блокноте агитатора"; есть свои малосознательные граждане, с которыми надо вести серьезную воспитательную работу, есть чуждые элементы, которые надо выводить на чистую воду.
Читать дальше