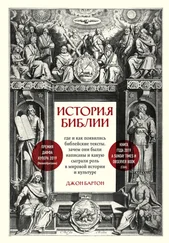Мы уже говорили о кризисе, наступившем в середине 80-х годов, который был вызван прежде всего глубокой неудовлетворенностью, охватившей всех художников этого направления. Их самих угнетала „закабаленность" чисто зрительным восприятием, за пределы которого они не позволяли себе выйти, обрекавшая их на пассивную фиксацию только видимого, тем самым внешнего, нестойкого, преходящего. Как ясно почувствовал это беспечный Ренуар, увидя в Италии произведения эпохи великого расцвета искусства, „полные знания и мудрости", как он сказал, творения Рафаэля, и как жестоко обрушился он на принципы импрессионизма: „Я дошел до конца импрессионизма… и вот я в тупике!" Разочарование в импрессионизме лежало в основе временного увлечения Писсарро дивизионизмом. Когда изучаешь ранний, до-импрессионистический период Сезанна, когда смотришь на полные какой-то еще неосознанной дикой силы и страсти такие произведения, как фрагмент фрески „Магдалина", как неистовое романтическое „Похищение" или зловещая сцена „Убийство", — то невольно думаешь, что многое должен был обуздать в себе этот художник и от многого отказаться, для того чтобы перейти к тому фанатически сосредоточенному изучению новых форм интерпретации природы, которому он отдал свою жизнь. Но, быть может, откровенней всех выразил эту неудовлетворенность, эту тоску, рожденную невозможностью излить в своем творчестве все то, что переполняет душу и сердце, самый классический представитель импрессионизма — Клод Моне. Вот его слова, записанные другом художника Клемансо, кому Моне поведал, что он чувствовал, когда стоял у ложа мертвой Камиллы — своей жены, которую он так любил: „Я заметил, что мои глаза прикованы к ее виску и что они машинально следят, как изменяются, взаимодействуют, гаснут оттенки, которые смерть накладывала на неподвижное лицо. Голубые тона, желтые, серые, какие еще? Вот до чего я дошел! Мое желание последний раз запечатлеть образ той, что нас покинула навсегда, — вполне понятно. Но еще раньше чем у меня возникло представление о ее столь дорогих чертах, глаз начал автоматически реагировать на воздействие цветов, и вот, вопреки самому себе, — я во власти рефлексов, я уже вовлечен в тот бессознательный процесс, к которому сводится вся моя повседневная жизнь. Да, я подобен животному, которое крутит свой жернов! Пожалейте меня, мой друг! [3] Georges Clemenceau. Claude Monet. Les nympheas. Paris. 1928, p. 19–20.
Импрессионизм подвергся резкой критике со стороны художников следующего поколения, хотя все они в той или иной форме учитывали те достижения, которые связаны были с этим течением. Гоген, первоначально выставлявший вместе с импрессионистами, нападал на них за пассивную верность зрительным впечатлениям, за то, что они находятся в „оковах правдоподобия". „То, что они пишут, связано с глазом, а не с таинственными глубинами мысли. Их искусство поверхностно, слишком несерьезно и материалистично. Мысли в нем нет".
Аналогичные мнения высказывал и Морис Дени, упрекая импрессионистов в отсутствии индивидуальности, чувства, даже поэзии. Нетрудно заметить, что эта критика (она велась главным образом с позиций нового формирующегося течения — символизма) была направлена не против узости реалистических достижений импрессионистов, а именно против этих достижений, которые в свете новых художественных тенденций начинают рассматриваться как нечто враждебное искусству.
Конечно, процесс художественного развития шел неравномерно. Нельзя упускать из виду (и Ревалд касается этого в последней главе), что существовала определенная преемственность между искусством Дега и Тулуз-Лотрека, придававшим иронии Дега более определенную, разоблачающую направленность. Вспомним также, что в контакте с импрессионистами начинал работать Теофиль Стейнлен, чье творчество в дальнейшем приобрело такую социальную целеустремленность. Но эти явления не стали определяющими, и их рассмотрение, в сущности, выходит за пределы книги Ревалда. В основном распад импрессионизма знаменовал наступление нового этапа истории французского искусства, шедшего по пути развития антиреалистических и индивидуалистических тенденций и все усиливающейся тем самым критики реалистических принципов импрессионизма.
Но была и иная критика импрессионизма, которая, начиная с самых первых выставок, то есть с 70-х годов, велась с совсем других позиций и существование которой, видимо, неизвестно Ревалду. Это — та критическая оценка, которую дали искусству импрессионизма русские художники и критики-демократы, всегда живо интересовавшиеся художественной жизнью Франции. Мы не считаем возможным в данной вступительной статье с должной полнотой и обстоятельностью осветить эту чрезвычайно важную проблему, заслуживающую специального исследования. Мы не хотим вырывать отдельные цитаты и отметим только самое основное. Встречи русских художников с французскими художниками в Париже не были просто встречами различных характеров, темпераментов, дарований или даже личных убеждений. Это было столкновение двух различных идейно-художественных традиций, сформировавшихся в странах, чьи исторические пути и в прошлом, и в настоящем, и в будущем были глубоко различны.
Читать дальше
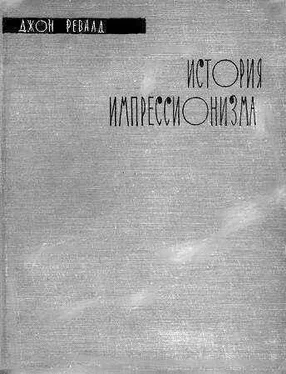

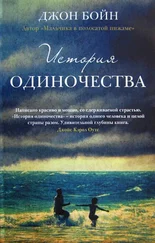
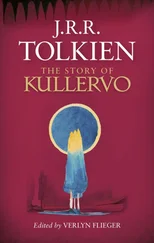

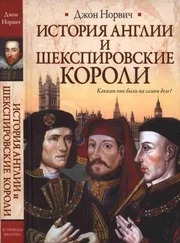
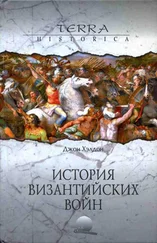
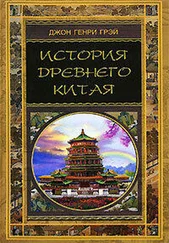
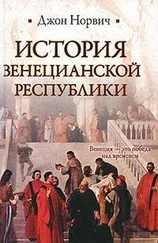
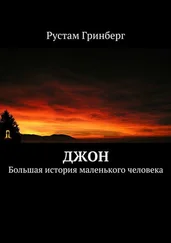
![Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]](/books/431685/dzhon-barton-istoriya-biblii-gde-i-kak-poyavilis-bi-thumb.webp)