В этом же письме поэт, пожалуй, впервые, сообщая о напавшей на него "необъяснимой мрачности", заговорил об идущей по пятам за ним и его товарищами смерти: "Однако куда девалось то, что мне душу наполняло какою-то спокойной ясностью, когда напитанный древними сказаниями, я терялся в развалинах Берд, Шамхора и в памятниках арабов в Шемахе? Это было во время Рамазана и после… Пожалей обо мне, добрый мой друг! Помяни Амлиха, верного моего спутника в течение 15-ти лет. Его уже нет на свете. Потом Щербаков приехал из Персии и страдал на руках у меня; вышел я на несколько часов, вернулся, его уже в гроб клали. Кого еще скосит смерть из приятелей и знакомых? А весною, конечно, привлечется сюда cholera… Трезвые умы обвиняют меня в малодушии, как будто сам я боюсь в землю лечь; других жаль сторично пуще себя". И далее поэт откровенно говорил о "сокровенности своей души", которая многое объясняет в его трагической судьбе: "…Для нее (души) нет ничего чужого, страдает болезнию ближнего, кипит при слухе о чьем-нибудь бедствии…"
Как будто в этом 1823 г. уже начинало сбываться пророчество, которое Грибоедов сам себе нагадал еще в Новгороде по пути в Персию, в письме Бегичеву 30 августа 1818 г., вспоминая судьбу Александра Невского, скончавшегося в 1263 г. в Городце Волжском, возвращаясь из Золотой Орды: "Представь себе, что я сделался преужасно слезлив, ничто веселое и в ум не входит, похоже ли это на меня? Нынче мои именины: благоверный князь, по имени которого я назван, здесь прославился; ты помнишь, что он на возвратном пути из Азии скончался; может, и соименного ему секретаря посольства та же участь ожидает, только вряд ли я попаду в святые!"
Что это? Прозрение будущего или простая интуиция поэтической натуры? И не нагадан ли здесь поэтом для себя и для многих других крест тяжких русских странствий, которые несли тогда угрозу за угрозой? "Прощай, мой друг; сейчас опять в дорогу, и от этого одного противувольного движения в коляске есть от чего с ума сойти!" — заканчивал свое письмо другу Грибоедов, как будто прощаясь навсегда, хотя до исполнения его предвидения оставалось ещё более 10 лет. Любопытно, что и свою известную комедию Грибоедов называл "горе мое", в ней он поместил следующие строки:
Ни беспокойства, ни сомненья,
А горе ждёт из-за угла!
Тем временем, после отъезда в феврале 1823 г. из Тифлиса в Москву, в жизни поэта началась более светлая полоса, хотя он и не верил, что настроения одиночества, "тягости себе самому" и скуки, которые преследовали его на Востоке, не повторятся в других местах. Призывая друзей "примириться с судьбой и смотреть на наши несчастья как на горнило нравственное", поэт все же надеялся, что "судьба отсрочит конец наших дней". Он окунулся в столицах в круговерть светской жизни, завершил свою гениальную комедию, став благодаря разлетевшимся по России ее спискам (только в музеях России хранится ныне более 160 списков комедии) знаменитым, и в результате оказался в центре бесконечных людских пересудов.
В суете столичной жизни поэт вновь и вновь терзался явным противоречием между своим поэтическим предназначением, высокими творческими порывами и приземленной реальностью, тисками обязательств. "Буду ли я когда-нибудь независим от людей? — писал он Бегичеву в 1825 г. — Зависимость от семейства, другая от службы, третья от цели в жизни, которую себе назначил, и может статься, наперекор судьбы. Поэзия!! Люблю её без памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобы себя прославить?.. Кто нас уважает, певцов истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов?.. Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям с дарованием…" Поэт утверждал, что "я как живу, так и пишу — свободно и свободно", что "для меня моя совесть важнее чужих пересудов": он хотел сказать людям, что "грошовые их одобрения, ничтожная славишка в их кругу не могут меня утешить", что мир вокруг него не сообразен "с ненасытностью души, с пламенной страстью к новым вымыслам, к новым познаниям, к перемене места и занятий, к людям и делам необыкновенным".
Грибоедов, пожалуй, первым в русской поэзии так явственно сформулировал для себя, что страсть "к перемене мест и занятий", к дальним странствиям и "новым познаниям" нужна поэту как воздух. И вот, пресытившись столицами, он пишет Катенину 17 октября 1824 г. из Петербурга: "Тебе грустить не должно, все мы здесь ужаснейшая дрянь. Боже мой! Когда вырвусь из этого мертвого города! — Знай, однако, что я здесь на перепутье в чужие края, попаду ли туда, не ручаюсь, но вот как располагаю собою: отсюдова в Париж, потом в Южную Францию, коли денег и времени достанет, захвачу несколько приморских городов, Италию и Фракийским Воспором в Черное море и к берегам Колхиды".
Читать дальше
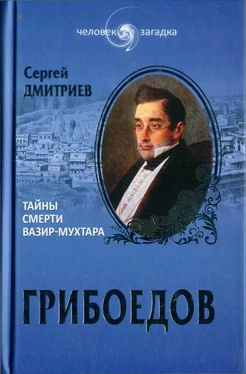





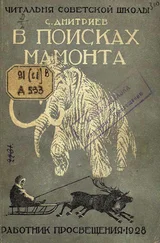
![Сергей Дмитриев - В джунглях Индии [жизнь и приключения индуса Мукерджи]](/books/404254/sergej-dmitriev-v-dzhunglyah-indii-zhizn-i-priklyuche-thumb.webp)



