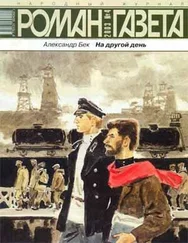- Отвяжись...
- Послушай, как оно звучит... Нет, ты послушай!
Ганьшин сделал вид, что затыкает уши, но я продолжал:
- "Адрос". Авиационный двигатель "Россия". Что, подходяще?
- Угомонись! Никакого "Адроса" еще нет, да и, наверное, не будет.
- Будет! Ты же сам согласился, что надо идти к Николаю Егоровичу.
- Иди, иди... Только дай, пожалуйста, поспать.
- Не дам! Говори, как тебе нравится название.
27
В пылу рассказа Бережков посмотрел на меня с вызовом, словно перед ним сидел не я, а несносный Ганьшин. Сложив руки на груди, Бережков стоял под портретом своего учителя - седобородого грузноватого профессора в широкополой шляпе и болотных сапогах. Мне хотелось побольше разузнать о Жуковском. Вновь услышав его имя, я сказал:
- У меня сделана заметка: "Жуковский с черной бородой". Вы просили напомнить.
- Да, да! - воскликнул Бережков.
Казалось, он даже обрадовался. У Бережкова-рассказчика была характерная особенность: он не любил плавного, ровного повествования и, случалось, моментально перескакивал с одной темы на другую.
- Да, да! - воскликнул он. - Это надо описать. Потом вы все это расположите в порядке. Как я уже докладывал, каждое лето мой отец отсылал меня с сестрой, рано заменившей мне мать, в деревню, в гости к Ганьшиным. Рядом находилась родовая усадьба Жуковских. В этой усадьбе, совершенно доступной всем окрестным ребятишкам, Николай Егорович Жуковский всегда проводил лето. И мое первое воспоминание о Жуковском связано с усадьбой Орехово, с ореховским прудом. В этой яркой картинке, засевшей в памяти, должно быть, с четырехлетнего или пятилетнего возраста, я отчетливо вижу Жуковского с черной бородой. Помнится солнце, мутноватая теплая вода, скользкое, немного страшное дно. Мы, мелюзга, плескались и барахтались у берега. Вдруг на плотине появился человек в просторном парусиновом кителе, в парусиновых брюках, большой, с брюшком, с черной и курчавой, как у цыгана, бородой. Он крикнул нам:
- Э, дети, вы, я вижу, совершенно не умеете купаться.
Быстро разделся и, разбежавшись, сделал огромный прыжок в воду, причем прыгнул ногами вниз. Вынырнув, он высоко поднял руки и в таком положении, с поднятыми руками, как бы стоя, переплыл весь пруд, пуская фонтаны изо рта. Я, должно быть, смотрел как завороженный на это чудо природы.
Эту картину - солнечный день, темно-бутылочную гладь воды, плакучие ивы на берегу, кое-где, у размывов, с обнаженными толстыми корнями, дальше огромный, в несколько обхватов, вяз, - эту картину я и сейчас вижу: она удержалась, словно осколочек зеркальца, запечатлевший момент детства.
Много лет по нескольку месяцев в году мне, мальчику, подростку, юноше, довелось жить рядом с Жуковским. Его жизнь была исключительно размеренной. В деревне он регулярно вставал в девять утра и приблизительно через полчаса пил чай. После этого он уходил в цветник и долгое время сидел, как это называлось, "под часами". В цветнике находились им же самим сделанные солнечные часы, а рядом с этими солнечными часами стояла скамейка. Там располагался Жуковский. Я не раз тайком наблюдал за ним, мне хотелось узнать, что он делает там, "под часами". Но он ничего не делал. Он раскидывал вот так руки на скамье, сидел и смотрел вдаль. Почти всегда у ног лежала Изорка, его собака. Иногда, машинально покачивая ногой, он задевал ее и бормотал:
- Изорка, Изорка, эка мерзкая собака...
Изорка оживлялась, но Николай Егорович смотрел и смотрел в пространство.
Теперь я понимаю, что Жуковский "под часами" отдавался свободному течению мыслей.
Посидев час-полтора, Николай Егорович шел в дом и брал свою бурку. У него была старая-престарая черная кавказская бурка с непомерно широкими плечами, которые стояли торчком. Брал он эту бурку, брал пачку белой бумаги и чернильницу, обыкновенную квадратную грошовую баночку с очень узким горлышком, которое закупоривалось самой простой пробкой. Я знал Жуковского в течение двадцати с лишним лет, но никакой другой чернильницы у него не вспоминаю. С этой квадратной баночкой и с тонкой круглой ученической ручкой, накинув бурку, в сопровождении неизменной Изорки он шел в сад. Это был редчайший старинный липовый сад, раскинувшийся на три десятины. В саду у Николая Егоровича была любимая береза. Под березой на траве он расстилал свою бурку, устраивался, как ему было удобно, и, лежа на животе или на боку, писал и писал свои формулы. Эти занятия Жуковского так и назывались: "Николай Егорович пишет формулы".
Читать дальше