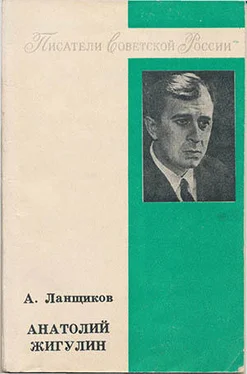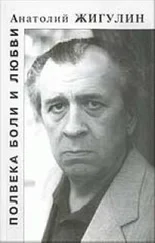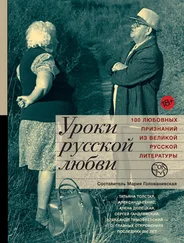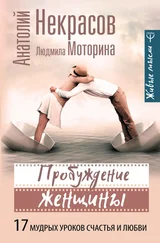Пожалуй, на основании подобных рекомендаций можно со спокойной совестью убрать первые две строфы и четвертую из есенинского стихотворения «Собаке Качалова»: «Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду» и т. д. Останется вся, так сказать, конкретная история и про «хозяина», и про «ту», что сюда «придет», но начисто исчезнут состояние, да и сам характер лирического героя.
И еще одно обвинение Е. Ермиловой в адрес А. Жигулина: «Стихи в изобилии наполняются общими местами — небогатой «мудростью», риторическими формулами, имеющими с поэзией только внешнее сходство, никакой наблюдательностью не искупается банальность таких вот «философских» деклараций»: «Ведь рядом с тихою печалью о том, что жизнь кратка моя, торжественней, необычайней земная радость бытия». А что уж тогда говорить о такой есенинской строфе?
Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое,
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.
Да, сборники афоризмов состоят из одних афоризмов (плохих и хороших), сборники пословиц и поговорок — из пословиц и поговорок, но как хлеб с изюмом содержит в себе не только изюм, так и поэзия не должна состоять из одних «открытий», открытия в поэзии должны вытекать из прописей, и тому доказательство творчество всех без изъятий наших великих поэтов.
Вполне закономерно, что в последние годы трудно было встретить проблемную или обзорную статью о поэзии в периодической печати, в которой не упоминалось бы имя Анатолия Жигулина. Его стихи давно привлекли внимание читателя и критики, но, пожалуй, именно в последние годы интерес к творчеству А. Жигулина стал устойчивым и, кажется, обещает быть продолжительным. И это ощущение порождается прежде всего зрелостью гражданского и поэтического чувства, которое невольно запечатлевается почти в каждом стихотворении А. Жигулина. На стихах А. Жигулина лежит печать не только большого и трудного жизненного опыта и поэтической зрелости, но и ярко выраженного «чувства пути», сопричастного с гражданской и духовной жизнью своего поколения.
Что же касается концепции «тихой» лирики, то ее за ненадобностью можно изъять из оборота наших литературных споров. Вреда от этого не получится никакого, а польза будет очевидная.
Статья моя «Концепция или схема?..» с небольшими сокращениями вместе со статьей Елены Ермиловой «Открытия и прописи» была опубликована в «Литературной газете» 10 января 1973 года под рубрикой;
«Два мнения о двух сборниках Анатолия Жигулина». От редакции говорилось: «В издательствах «Современник» и «Советская Россия» вышли поэтические книги Анатолия Жигулина «Свет предосенний» и «Чистое поле». Книги вызвали большой интерес у любителей поэзии, хотя их мнение и не было единым. Это отразилось в публикуемых сегодня выступлениях двух критиков — они носят полемический характер. Причем многие возражения А. Ланщикова Е. Ермиловой представляются весьма убедительными».
Я далек от мысли сковывать критика чьими–либо авторитетами, в том числе и газетным «арбитражем» (чьи суждения более убедительны, чьи менее), но у меня всегда вызывает возражения и тот «нигилизм», когда игнорируются уже ранее высказанные по какому–то поводу соображения. Статья Елены Ермиловой «Открытия и прописи» была написана так, словно все прежде сказанное о поэзии Анатолия Жигулина не заслуживало внимания.
Сборник «Прозрачные дни» вышел в семидесятом году, о нем было высказано очень много хороших слов, что в общем–то и позволило Е. Ермиловой сказать о редком единодушии «придерживающихся «самых разных мнений и взглядов» критиков Л Явлинского, Аннинского, О. Михайлова, Ал. Михайлова, Ланщикова и других…». К «другим», вероятно, можно было отнести и Вадима Кожинова, писавшего за год до публикации статьи Е. Ермиловой: «Путь, по которому с такой верностью себе следует уже столько лет Владимир Соколов, кажется мне наиболее плодотворным. И в частности, именно потому, что его поэзия не связана с какими–либо субъективными «тенденциями», с так называемыми «групповыми интересами». Тем же путем идут, конечно, и многие другие современные поэты — такие, например, как А. Жигулин, С. Куняев, А. Передреев, О. Чухонцев».
Но это, так сказать, «списочное» достоинство. А вот что конкретно говорилось о самом Жигулине: «Так, появление на этой арене (речь шла о появлении поэтов из провинции на всероссийской арене. — А. Л.), например, воронежца Анатолия Жигулина в той или иной мере изменило сам поэтический климат».
Читать дальше