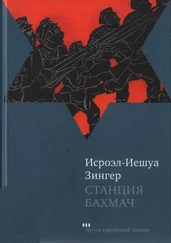Мальчики, которые не закрывали глаза и видели, что это не ангел небесный насыпал изюм с миндалем, а мой отец, корчились от смеха надо мной, легковерным. Отец оделил их всех, раздав из бумажного кулька по горсточке изюма, миндаля и конфет. Потом он поправил у меня на голове новую, обшитую золотым галуном ермолку, которую купил мне на праздник у коробейника, и наказал быть хорошим мальчиком и прилежно учить Тору.
— Ешиеле [33] Диминутив от имени автора — Иешуа.
, дитя мое, да вырастешь ты таким же гоеном [34] Гений ( древнеевр. ) — титул выдающихся талмудистов.
, как реб Иешуа Кутнер [35] Иешуа Кутнер — то есть Иешуа из Кутно. Прозвище автора галахических сочинений и комментатора Писания Исроэла-Иешуа Трунка (1821–1892), который в 1861–1892 гг. был раввином в Кутно, уездном городе Варшавской губернии. И.-И. Трунк поддерживал хасидских цадиков. Полный тезка И.-И. Зингера, который получил в честь него оба имени. В ашкеназской традиции имя дают только в честь умерших. Характерно, что Зингер родился в 1893 г., вскоре после смерти Трунка. Кутно — уездный город Варшавской губернии. В нем, по переписи 1897 г., проживало 5000 евреев (около 50 % населения).
, благословенной памяти [36] Благословенной памяти — благословение, добавляемое после упоминания имени умершего.
, в честь которого ты назван Исроэлом-Иешуа, — пожелал мне отец. — Слышишь, что я тебе говорю?
— Скажи да, Шиеле [37] Диминутив от имени автора — Иешуа.
Кутнер, — подсказал мне меламед.
Как только отец вышел из хедера, мальчики сразу стали толкать меня и называть Шиеле Кутнером.
Я был испуган и очень стеснялся имени великого гоена, в честь которого меня назвали. Мне захотелось домой к папе с мамой. Реб Меер посмотрел на меня большими, черными, меланхолическими глазами и ущипнул за щеку костлявыми холодными пальцами.
— Видишь этот канчик с шестью хвостами, — показал он. — Это чтобы пороть мальчиков, которые не хотят ходить в хедер. Поэтому сиди тихо на скамье и внимай Торе, которую я буду с тобой учить… Видишь эту букву, похожую на столик с подрубленной ножкой, это «гей», скажи «гей», «гей»…
Плача, я сказал: «Гей, гей…»
Мальчики и девочки не переставали давиться от смеха.
На следующее утро я ни за что не хотел идти в хедер. Сын меламеда, Касриэл, парень с острым, постоянно бегающим вверх-вниз кадыком, пришел, чтобы отвести меня в хедер. Мама попробовала было убедить отца, чтобы меня оставили в покое еще на день, потому что я трясся от страха перед этим парнем с кадыком. Отец сказал, что придется меня приучить к хедеру силой.
— Мальчику должно нравиться ходить в хедер, — заключил он. — Тора сладостна.
Но я не почувствовал этой сладости, когда Касриэл взял меня за руки и за ноги и закинул себе на плечи, как зарезанного теленка. Я царапал его ногтями, бил ногами, вопил на все местечко. Обыватели не могли нарадоваться, глядя на это зрелище из дверей своих домишек.
— Молодец, Касриэл, — подбадривали они сына меламеда, который был белфером в хедере у своего отца, — шлепни-ка его, этого раввинского сыночка…
Касриэл крепко держал меня одной рукой; в другой он нес деревянный ящичек, в котором лежали краюхи для учеников его отца.
Это повторялось изо дня в день. С исключительным, редким для трехлетнего мальчика упорством я воевал против ненавистного хедера.
В принадлежавшем меламеду низеньком доме с мезонином окна всегда, и зимой и летом, были закрыты. В комнате, где шли занятия, кроме того, стояли кровати. На черной печке, которая буквально кишела «французами» — так у нас называли тараканов — меламедша варила, пекла, стирала, штопала чулки, натянутые на стакан, чистила картошку, уча при этом азбуку и правила чтения с ватагой девочек. Вокруг стола, над которым висела керосиновая лампа с вечно треснутым и заклеенным бумагой закопченным стеклом, теснилось несколько десятков учеников, от трехлетних до десятилетних. Реб Меер вел занятия и с младшими, и со старшими, которые уже учили Пятикнижие с Раши. Старшие допекали младших, которых наградили почтенным прозвищем «вонючки». Меламед, в засаленной ермолке, вечно без капоты, в одной жилетке, которую он носил не снимая и летом и зимой и из прорех которой торчали клочья грязной ваты, не расставался с канчиком из лисьей лапки с кожаными хвостами. Лисью лапку он использовал также в качестве указки, водя ею по строчкам молитвенника. Лицо у меламеда было желтым, словно от желтухи. Его большие, черные глаза были сама меланхолия. Дрожь пробирала того, в кого он вперял свои страшные, полные скорби глаза, заключавшие в себе все страдание, всю тщету этого мира со всем, что в нем есть.
Читать дальше