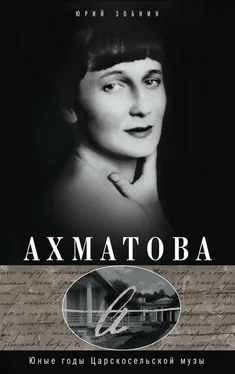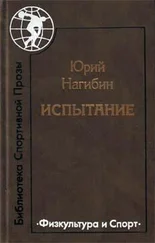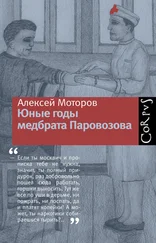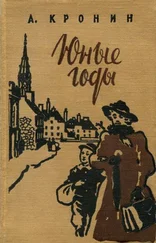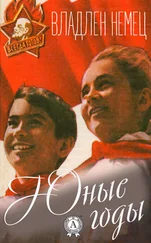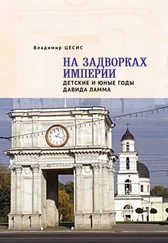Гумилёв Н . «Русалка» (1904).
Минцлов С. Р . Петербург в 1903–1910 годах. Б. м. 2012 (запись от 23 февраля 1905 г.).
Этот «путиловский инцидент», возымевший воистину планетарные последствия, до сих пор поражает объективной ничтожностью конфликта: в сущности, некую несправедливость со стороны злополучного мастера Тетявкина (и стоящего за ним заводского начальства) можно усмотреть лишь в отношении уволенного рабочего лесообработочной мастерской Сергунина. Это был ветеран, отдавший заводу тринадцать лет и, конечно, заслуживающий снисхождения. Работал же он, по немощи, действительно, всё хуже и хуже: с должности старшего контролера был переведён на строгальный станок, потом на ленточную пилу, но и там не выполнял и половины нормы. Что же касается трёх остальных рабочих, то тут имела место обычная дежурная ругань начальника с подчинёнными: все трое по разным причинам попались на прогулах и получили, разумеется, «выволочку» (понятно – с угрозами уволить).
Михаил Андреевич Ушаков был ярким деятелем раннего профсоюзного движения в России, создателем «Независимой социальной рабочей партии» и издателем «Рабочей газеты» (1906–1908). Ушаков был противником влияния интеллигенции на рабочих. К любым революционным акциям он относился отрицательно, уповая исключительно на лояльные к существующим законам методы общественной борьбы, так что со стороны «левых» общественников (и Гапона, в том числе) «ушаковщина» воспринималась враждебно, как вредный вид оппортунизма.
Волошин М. А . «Предвестия (1905 г.)». Имеется в виду оптический гало-эффект (от англ. halo – ореол, сияние), возникающий на небосводе в морозную погоду: свидетелем такого необычного атмосферного явления автор стихотворения стал, оказавшись утром 9 января 1905 г. в Петербурге.
Упорные попытки историков связать Гапона с какой-либо политической партией (или с охранным отделением), видеть в нём сознательного провокатора и т. п. представляются малоубедительными именно потому, что он всегда держался какой-то собственной линии, связанной, как кажется, более с мистическими и нравственными интуициями, нежели с рациональным расчётом. Это был именно духовный вождь, вроде Петра Пустынника или Иоанна Лейденского, что и явилось основой его общественных успехов в российской народной среде.
По характеристике одного из видных эсеров: «Совершенно не понимая необходимости партийных программ и партийной дисциплины, считая деятельность революционных партий вредной для цели восстания, он глубоко верил только в себя, был фанатически убеждён, что революция в России должна произойти только под его руководством» ( С. А. Анский (Раппопорт) ). Следует добавить, что саму «революцию» Гапон мыслил как «обновление России на началах правды», т. е. крайне неопределённо. В эмиграции, куда он попал после Кровавого воскресенья, Гапон активно сотрудничал с эсерами, анархистами, социал-демократами, но уже к осени 1905 г. имел повсюду в этих кругах репутацию «обнаглевшего попа», с которым невозможно иметь дело. После дарования гражданских свобод Манифестом 17 октября 1905 г. он на краткое время нелегально вернулся в Россию, где вступил в тайные переговоры с… премьер-министром С. Ю. Витте (последний имел виды на Гапона как на будущего лидера легальных профессиональных союзов рабочих). За границей Гапон вновь публично отрёкся от идеи вооруженной борьбы («вооружённое восстание в России в данное время есть тактическое безумие»), после чего революционная печать заклеймила новоявленного «октябриста» как оппортуниста и провокатора. В конце концов, 28 марта 1906 г. он был убит эсером Петром Рутенбергом.
Газета «Новое время» так описывала случившееся: «Во время величественной иорданской церемонии, когда митрополит Антоний совершал водоосвящение и по сигналу ракеты в момент погружения креста загремел салют артиллерии, непостижимым образом в одном из холостых зарядов оказалось несколько патронов с пулями старого образца, которые при выстреле перелетели Неву, осыпали часть Иордани, коробку подъезда и колонны Зимнего дворца, оставив на них заметные следы. Одной пулей пробило знамя морского корпуса, одной пулей ранило городового; две пули пробили верхние стекла Николаевского зала и залетели в самый зал, упав под хорами». Именно этот инцидент, а вовсе не подготовка «шествия с петицией» (как потом утверждали революционеры), был причиной постоянного нахождения императора в Царском Селе с 7 по 9 января 1905 г.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу