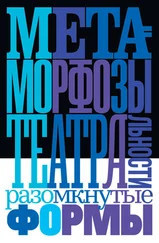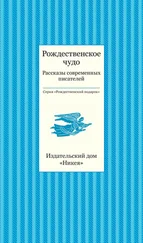– Вот уж никогда я архишуки не ем с соусом; врет, кто это сочинил. ‹…›
– Это правда, – сказал Гаврила Тимофеевич, – нынче у нас так много появилось нравственно-сатирических романов, что если б они описывали не глухих и не безграмотных, то верно бы скоро последовало исправление [127] Симоновский Г. Указ. соч. С. 141.
.
Персонажи этого российского «Жиль Блаза» читают уже не Бову Королевича, а популярные в ту пору «нравственно-сатирические романы». При этом модная бирка, как кажется, опережает сам прием: романы «выжигинского бума», все эти гурьяновские «пройдохины» и орловские пародии на «Выжигина», довольно архаичны: на обложке красуется титул «нравственно-сатирический роман», а под обложкой – очередной Ванька Каин (у Орлова так и написано – «сын Ваньки Каина»). К самому «Выжигину» модная бирка точно так же мало приложима – в этом, собственно, состояла суть претензий журнальной критики: Булгарин будто бы «дал обещание, да не выполнил», – обещал написать историю, которая «может случиться со всяким», а «слепил роман» как в старину – «из вымыслов». – «“Иван Выжигин” есть не что иное, как – большая сказка» [128] «“Иван Выжигин” действительно есть не что иное, как – большая сказка ; а наши добрые люди приняли кукушку за ястреба и – ну потрошить ее охотничьими ножами!.. А! Никодим Аристархович! атенейский кум ваш промахнулся немножко!.. Ему б лучше приняться за то, почему автор “Выжигина”, обещавшись рассказывать “происшествия, кои могли случиться со всяким, без прибавлений вымыслов”, не сдержал своего слова?..» ( Надеждин Н. И. «Иван Выжигин», нравственно-сатирический роман // Вестник Европы. 1829. № 11. С. 212).
. В этом несоответствии обвинял Булгарина Надеждин, и в этом с ним сходился Пушкин (Феофилакт Косичкин), оба они уподобляли Булгарина лубочному Орлову («Несколько слов о мизинце господина Булгарина и о прочем» [129] Эта пушкинская статья с подписью Ф. Косичкин была опубликована в «Телескопе» Н. И. Надеждина (Телескоп. 1831. Ч. 4. № 15. Август. С. 412–418).
). Критики обвиняют Булгарина в том, что он пришивает модный ярлык на изделие для толкучего рынка, что он написал роман авантюрный и архаический, без какого бы то ни было нравоописательного правдоподобия. Характерно, что Надеждин ставит ему в пример того же Нарежного:
Все, однако ж, ты не скажешь, – подхватила Фекла Кузминишна, дожидавшаяся с нетерпением окончания речи возлюбленного сожителя, – все, однако ж, ты не скажешь, что у нас на Руси бывали прежде такие истории! Ведь «Жилблаза»-то писал не русской!
П [ ахом ] С [ илич ]. А ты разве не читала романов покойника Нарежного?.. Вот так подлинно народные русские романы! Правду сказать – они изображают нашу добрую Малороссию в слишком голой наготе, не отмытой нисколько от тех грязных пятен, кои наведены на нее грубостью и невежеством; но зато – какая верность в картинах! какая точность в портретах! какая кипящая жизнь в действиях!.. [130] Надеждин Н. И. Указ. соч. С. 212.
Вероятно, в силу определения «нравственно-сатирический роман», в «Выжигине» присутствуют портреты плохих и хороших помещиков, причем иные из них впоследствии явятся у Гоголя (так булгаринский Глаздурин отзовется в Ноздреве). В «Выжигине» появляется настоящий положительный герой – честный чиновник Петр Петрович Виртутин, он провозит героя по разным имениям, показывая ему образцовые. Наконец, там есть глава под названием «Помещик, каких дай Бог более на Руси», фамилия помещика, разумеется, Россиянов, и он – патриот. Все это отчасти напоминает последний – утопический – том Нарежного и предвещает гоголевскую «поэму». И тем не менее «Мертвые души» в этом ряду – произведение совершенно другого порядка, в нем, безусловно, есть черты «российских Жиль Блазов», но гораздо более существенно то, что выделяет его из этого ряда.
Прежде всего, для «Жиль Блазов» характерно повествование от первого лица. В такой нарративной модели герой – заведомый протагонист, и коль скоро между повествователем и персонажем нет дистанции, то нет и отстранения: даже если заглавный персонаж совершает неблаговидные поступки, он должен быть оправдан [131] Подробнее об этом см.: Striedter J . Op. cit. S. 19.
. «Жильблазовская» модель предполагает рассказ опытного человека о своем начальном неблагополучии, о пройденных им испытаниях, о «школе жизни» и о последующем исправлении. Такой роман пишется в обратной перспективе, и соответственно рассказ начинается с начала: история героя, история семьи, воспитание (антивоспитание). Временная диспозиция задает известную дистанцию – у Гоголя она создается позицией повествователя, подчеркнуто удаленного. Традиционное начало, – собственно, рассказ про детство Чичикова, про его отца, начало карьеры и т. д. – мы находим лишь в конце первого тома (подобно пушкинскому: «Хоть поздно, но вступленье есть»). А в первых главах «Мертвых душ» мы получаем Чичикова уже готовым, законченным и гладким, как бы покрытым лаком: у него нет развития, нет шероховатостей, единственная его отличительная черта – это маниакальная чистоплотность [132] Притом, что мы привыкли думать, будто у Чичикова нет никаких отличительных, то есть резких черт, он – «никакой»: «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод» ( Гоголь Н. В. Указ. соч. М., 1951. Т. 6. С. 7).
. В этом смысле он составляет парадоксальную противоположность князю Чистякову, который возникает в начале романа весь в грязи, вытирая слезы грязною рукой и являя собою заведомый контраст между чистосердечием и грязью обстоятельств. И Выжигин в начале романа обретается в грязи, в собачьей конуре, – этот герой явился из грязи. Чичиков же, едва явившись на страницах книги, без конца умывается и скребет щеки, он всю дорогу с вожделением мечтает о французском мыле. И когда Гоголь наконец доходит до истории его жизни – истории законченного плута, он замечает:
Читать дальше
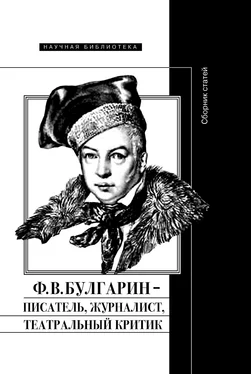
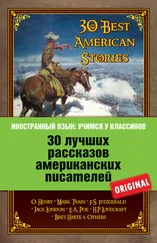
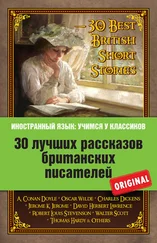


![Коллектив авторов - Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик [litres]](/books/430776/kollektiv-avtorov-f-v-bulgarin-pisatel-zhurna-thumb.webp)