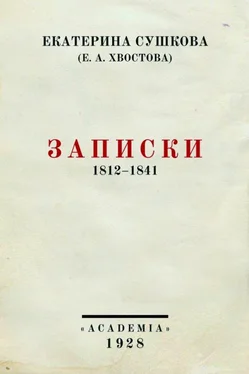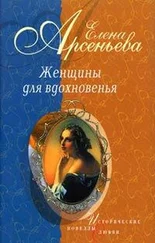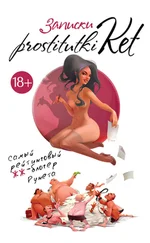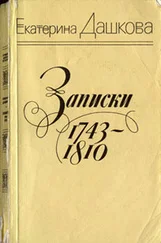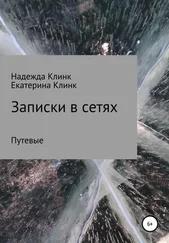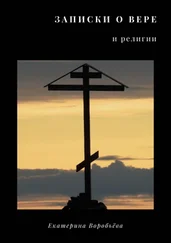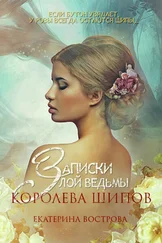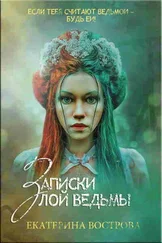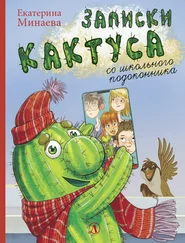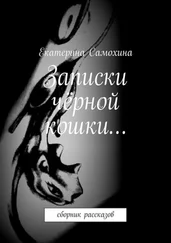Эта тетрадь автографов Лермонтова сохранилась и находится в настоящее время в Рукописном отделении Российского Исторического Музея в Москве.
Николай Соломонович Мартынов, человек умственно ограниченный, фат и позер, как рассказывает близко знавший его Я. И. Костенецкий, при появлении своем в Ставрополе в 1839 г. «был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепиано романсы и полон надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 г. я увидел его в Пятигорске. Но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке всего майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким то дикарем: отростил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый». («Русск. Арх.» 1887 г. №1, стр. 114). Фальшь этой дешевой «байронической» позы давала богатый материал не только для изощрения остроумия Лермонтова. Его бывший школьный товарищ стал играть главную роль и в карикатурных набросках, которыми развлекался поэт в последние месяцы своей жизни. В одном из альбомов князь Васильчиков, как передаст П. А. Висковатов, видел, например, сцену, где Мартынов верхом въезжает в Пятигорск. Кругом восхищенные и пораженные его красотою дамы. Под рисунком была подпись: Monsieur le poignard faisant son entrée a Piatigorsk. В альбоме же можно было видеть Мартынова, огромного роста, о громадным кинжалом от пояса до земли — объясняющегося с миниатюрной Надеждой Петровной Верзилиной, на поясе которой рисовался маленький кинжальчик»… Карикатурный силуэт Мартынова «доведен был до такой простоты», что Лермонтов «просто рисовал характерную кривую линию, да длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изображает». («М. Ю. Лермонтов», М. 1891, стр. 403–404).
Эта глухая ссылка А. П. Шан-Гирея на «остальные варианты» свидетельств о последней дуэли Лермонтова имела прежде всего в виду рассказы, изобличавшие Э. А. Клингенберг (впоследствии жену мемуариста) и некоторых из ее близких в неблаговидной роли в событиях, предшествовавших смерти поэта. Поскольку весь фактический материал о пребывании Лермонтова в Пятигорске, изложенный А. П. Шан-Гиреем, восходил к показаниям об этом Эмилии Александровны (ср. в настоящем издании стр. 397–399 и 429–430), за счет последней приходится отнести и тенденциозную попытку ее мужа заранее опорочить все иные толкования обстоятельств трагической кончины Лермонтова.
Автор писем, положенных в основание публикации П. П. Вяземского «Лермонтов и г-жа Гоммер-де-Гэлль в 1810 г.», Жанна Адель Эрио (род. ок. 1815 г.), жена известного французского геолога и путешественника по Востоку, Оммер-де Гэлль (Hommaire de Hell), с 1835 по 1812 г. производившего некоторые научные изыскания на юге по заданиям русского правительства; поэтесса, выпустившая впоследствии сборник своих стихов («Reveries d'un voyageur», 1845 г.) и описание путешествия по югу России «Voyage dans les steppes de la mer Caspienne et dans la Russie meridionale», Париж, 1860, 2-ое изд. 1868 г.). Это была, по воспоминаниям лично знавшего ее бар. Е. И. фон-Майделя, «молодая, красивая и обаятельная дама, кружившая безустанно головы своих многочисленных поклонников и видевшая в том едва ли не цель своей жизни. Она имела живой и веселый характер, много путешествовала по России и была известна как поэтесса. В разговорах она поражала большою начитанностью и знанием русской истории и литературы. Ее определения и характеристики известных лиц были типичны, злы и метки». (П. К. Мартьянов. «Дела и люди века», т. II, СПБ, 1893 г, стр. 160). Французский оригинал писем А. Оммер-де-Гэлль. опубликованных впервые в переводе П. П. Вяземского в «Русском Архиве» 1887 г., кн III, стр. 128–140, и перепечатанных в «Собрании сочинений П. П, Вяземского», СПБ, 1893 г., стр. 627–641, до сих пор не известен. В ее «путешествии», на которое ссылается издатель-переводчик этих замечательных документов, эпизоды, соответствующие материалу писем, обозначены очень глухо и обще.
Нина Александровна Реброва (по мужу Юрьева), дочь помещика, о заслугах которого по насаждению шелковичного производства и виноградников Оммер-де-Гэлль написала статью «Владимировка на Куме» в «Одесском Журнале» 1840 г. №34, Сведения, сообщаемые в письмах Я. Оммер-де-Галль об увлечении Ребровой Лермонтовым, Э. А. Шан-Гирей назвала, впрочем, без всяких оснований, «чистой выдумкой» («Русский Арх.» 1887 г., кн. XI, стр. 437).
Читать дальше