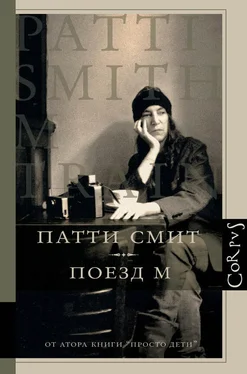– Одзу был охоч до саке, – сказал Эйс, – никто не осмелится откупорить его бутылки.
Все было покрыто снегом. Мы поднялись по каменным ступенькам, положили благовония, увидели, как дым от них начал струиться, а затем завис совершенно неподвижно, словно заранее воображая, каково быть замороженным.
В воздухе мерцали сцены из фильмов. Лежащая актриса Сэцуко Хара, освещенная солнцем, ее открытое светлое лицо, ее ослепительная улыбка. Она работала с обоими мастерами, вначале с Куросавой, затем снялась в шести фильмах Одзу.
– Где она похоронена? – спросила я, подумав, что надо бы принести охапку огромных белых хризантем и возложить к ее надгробию.
– Она еще жива, – перевел Дайс. – Девяносто два года.
– Желаю ей дожить до ста лет, – сказала я. – И остаться верной себе.
Следующее утро выдалось пасмурным, сумрак действовал гнетуще. Я подмела могилу Дадзая и вымыла надгробие; казалось, я омываю его тело. Ополоснула вазы для цветов, поставила в каждую по букету свежесрезанных цветов. Красные орхидеи – символ крови, его туберкулеза – и веточки белой форзиции. Ее плоды набиты семенами-крылатками. Форзиция слабо пахла миндалем. Крохотные цветки, выделяющие молочный сахар, – символ белого молока, которое скрашивало жизнь Дадзаю, когда у него обострялась чахотка. Я добавила несколько метелок “дыхания младенца” [45]с облачками крошечных белых цветов – чтобы его изъеденным легким дышалось свободнее. Букеты соединились в маленький мостик – словно две руки соприкасаются. Я подобрала несколько каменных крошек с плиты, сунула карман. Потом разложила на круглой подставке благовония, ровным слоем. Сладко пахнущий дым обволок его имя. Мы уже собирались уйти, когда сквозь тучи внезапно прорвалось солнце, и все засияло. Возможно, “дыхание младенца” сработало – освежило легкие Дадзая, и тот сдул облака, заслонявшие солнце.
– По-моему, он рад, – сказала я. Эйс и Дайс кивнули, соглашаясь.
Конечной точкой маршрута было кладбище в Дзигэндзи. Когда мы приближались к могиле Акутагавы, я припомнила свой сон и задумалась: придаст ли он особую окраску моим переживаниям? Мертвые разглядывают нас с любопытством. Прах, кусочки кости, пригоршня песка, застылость органического вещества в ожидании. Мы возлагаем цветы, но нам не спится. Нас обхаживают, а потом осмеивают, нас терзает, как Амфортаса, короля рыцарей Грааля, упорно незаживающая рана.
Было очень холодно, небо снова потемнело. Я чувствовала странную отрешенность, окоченела от мороза, но зрительные впечатления воспринимала обостренно. Меня привлекли контрастные тени, и я четыре раза сфотографировала подставку для благовоний. Все снимки вышли почти одинаковыми, но я осталась довольна – вообразила, что это части ширмы. Четыре части ширмы – одно время года. Я отвесила поклон, поблагодарила Акутагаву в то время, как Эйс и Дайс уже спешили к машине. Когда я направилась было вслед, капризное солнце вернулось. Мне попалась старая-престарая вишня, завернутая в разлохмаченную мешковину. Холодный свет подчеркивал фактуру мешковины, и я выстроила композицию последнего снимка: маска комического персонажа, чьи призрачные слезы словно бы струятся по истрепанному мешку.
На следующий вечер я морально подготовилась к переезду в другой отель, уже оплакивая свой монотонный распорядок отшельницы. В отеле “Окура” я была заточена в коконе вместе с двумя горемычными мотыльками, которые не желали выбираться наружу, хотя и не прятали своих лиц. Сидя за железным письменным столом, я составила список грядущих дел, в том числе встреч с моим издателем и переводчиком. А потом увижусь с Юки и помогу ей собирать пожертвования для школьников, которых осиротили землетрясение и цунами 2011 года в Тохоку. Я собрала свой маленький чемодан, окутанная дымкой ностальгии по потоку моей жизни в настоящем времени, который я вот-вот направлю в другое русло, по пригоршне дней в сотворенном мной мире, в мире утлом, как храм из деревянных спичек.

Маска комического персонажа
Я зашла в кладовку, достала матрас-циновку и подушку, набитую гречишной лузгой. Разложила циновку на полу, завернулась в одеяло. Стала смотреть по телевизору что-то наподобие “мыльной оперы” из жизни XVIII века. Действие развивалось медленно, субтитров не было, веселья – ни капли. Но меня это устраивало. Мое одеяло – как облако. Дрейфую на нем, странствую, следуя взглядом за кистью девы, которая рисовала на парусах деревянного кораблика столь печальную сцену, что сама разрыдалась. Ее одеяние со свистом рассекало воздух, когда она бродила босиком из комнаты в комнату. Сдвинув дверь, вышла на заснеженный берег. Река была свободна ото льда, и корабль проплыл мимо, без нее. Не отпускай свой корабль по реке слез, кричал неистовый ветер. Маленькие руки обретают покой, замри, затихни. Она встала на колени, потом прилегла на бок, стиснув в кулачке ключ, приняла милосердие бесконечного сна. Рукав ее одеяния украшало яркое изображение ветки сливового дерева с хрупкими цветами, в их темных серединках виднелись россыпи крохотных капелек. Я закрыла глаза, словно чтобы составить компанию деве, и капельки переместились, сложились в узор, похожий на продолговатый остров у края нетронутой пустоты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу