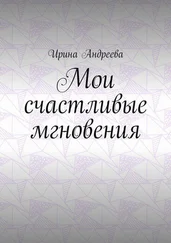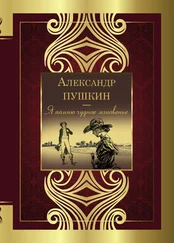– Когда вышла в свет Ваша первая книга, Вам едва исполнился двадцать один год…
– Да, и я поражаюсь тому, как поздно сегодня писатели вступают в литературу. В мое время было иначе. Современная молодежь плохо знает литературу, и это очень жаль. Потому что линия литературы, путь, по которому она шла – оступаясь, отступая, мучаясь, прячась, – никогда не прекращалась, и никогда не могла прекратиться. Мы вступали в продолжающуюся литературу, где был Блок, стихи и речи которого мы слышали, был Сологуб, Андрей Белый… Одним словом, мы приняли эстафету русской литературы. И когда я утверждаю, что «Воскресенье» – это роман, направленный на прямые нравственные цели, то выстраивается целый ряд других произведений. А что такое «Гамбринус» Куприна? Или «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева? Что такое Горький? Юрий Олеша? Бабель? И вот тут мы натыкаемся на проблему памяти, проблему нравственной обязанности мыслить исторически. Потому что без исторической памяти мы просто не сможем жить, не сможем работать. Это даже не обсуждается, это ясно как воздух.
– Дмитрий Сергеевич Лихачев тоже говорил о теоретическом значении памяти в истории литературы и четко высветил неизбежную, нависшую над нами, необходимость нравственной позиции…
– И я счастлив, что твердую нравственную позицию, которой неуклонно придерживаюсь всю свою жизнь, заложил во мне Горький…
– Так получилось, что в том же апрельском номере журнала «Знамя», где напечатан «Силуэт на стекле», публикуются мемуары Константина Симонова «Глазами человека моего поколения», снова, в который раз, возвращая нас к очень больной для всех теме – времени культа личности Сталина. В книге «Литератор» у вас есть целая глава, состоящая из переписки с Симоновым, размышлений и воспоминаний о нем. Вы с ним писатели разных поколений. Симонов сформировался в годы, когда одни (вспоминая Ваш роман «Открытая книга»), разговаривая откровенно друг с другом, накрывали наивно подушками телефон, другие – везде и всегда молчали, делая вид, что ничего не происходит). После ХХ съезда партии у многих происходила переоценка ценностей, но нужно было большое мужество, чтобы эту переоценку в своей душе совершить в полной мере. Пример такого мужества – записки Симонова.
Процесс формирования писателей старшего поколения, мне кажется, проходил в более благоприятные для творчества времена. Или на вас культ личности тоже воздействовал в полной мере?
– Вы правы, мы с Симоновым принадлежим к разным литературным поколениям. Но, откровенно говоря, мне, уже очень пожилому человеку, жалко, что журнал «Знамя» напечатал эти воспоминания. Я познакомился с Симоновым в Ялте, в конце 30 – х годов. Это было личное знакомство, которому предшествовало, так сказать, литературное, внушившее мне симпатию и благодарность к нему. Но, знаете, я был поражен, услышав в ответ на мой вопрос, над чем он сейчас работает, что, вот, мол, намерен пойти к председателю Комитета по делам искусств М.Б. Храпченко и предложить ему три темы пьес. Мы, писатели 20 – х годов работали ни с кем не советуясь, что и как писать, и были в этом отношении верными учениками XIX века. Сам факт, что можно предлагать темы для заказа был для меня странным.
Я верил в искренность Симонова, видя его залитое слезами лицо на траурном собрании в Театре киноактера (умер Сталин – И.Т .), от горя он не мог говорить… Но я не могу примириться с тем, что его воспоминания подорвали в моем представлении образ отважного офицера, мужественного человека, каким все его знали. И когда я читаю, что по заказу Сталина он пишет пьесу и советуется с ним, как лучше ее написать, советуется с человеком, сказавшим о посредственной сказке Горького «Девушка и Смерть»: «Эта штука сильнее чем «Фауст» Гете», я думаю: вот оно, ощущение рабства, потеря своего лица. Да, это уже не человек, который творит свою волю в литературе. Думаю, излишне было так широко об этом оповещать.
– Ощущали ли Вы на себе всю тяжесть культа личности?
– Я – такой же, как все. Я все ощущал. Но ни разу, хотя написал много, ни разу не упомянул Сталина ни в прозе, ни в статьях, никогда и нигде. Ну, конечно, разве можно было не знать, не видеть всей лжи, всех предательств? Мое поколение это и видело, и понимало. Границы свободы были в то время чрезвычайно узки и для того, чтобы как – то их раздвинуть, приходилось уходить в другие области. Думаете, почему я так много писал о науке? В науке нельзя лгать, человек, который лжет в науке, тем самым выставляет свою ложь на сцену мирового мнения.
Читать дальше