Кстати, первым поднял тревогу Леня. Он чувствовал что-то неладное и все твердил Зое Михайловне: «Поезжай, Лийке там плохо». Хорошо, что она прислушалась… Развод оформляли уже заочно. Аркадий потом еще долго писал Лие. Но не приезжал. Ленька тогда сказал сестре: «Если ты ответишь хоть на одно письмо, я тебе ноги выдерну и спички вставлю».
После незадавшегося брака нужно было все начинать сначала. Лиечка и тут проявила самостоятельность. К отцу в совхоз снова не пошла. Ну, как же, разве можно по блату? Хоть и с двухлетней отсрочкой приняла приглашение работать в Омске. Боролась с совкой зерновой – есть такой вредитель. Испытывала пестициды. Первый раз, когда в поле вышла, – конца краю не видать, вспомнила поговорку: пошел работать – забудь то, чему тебя учили в институте. На практике все совсем не так, как в теории. В учебнике написано, при какой влажности и температуре надлежит хранить зерно, как оно должно быть послойно укрыто. А зашла в сарай: брезент на голую землю постелен, сверху свалена куча зерна – мокрое, и от совки, если присмотреться, аж шевелится.
Первый свой сибирский заработок потратила, купив маме нарядную теплую кофту, Леньке – свитер, отцу – шерстяную безрукавку. А на то, чтобы отправить подарки почтой в Ленинград, денег уже не осталось. Пришлось ждать отпуска, чтобы отдать их собственноручно.
Жила в частном домике у колоритной бабки Фаины, потомственной сибирячки. Они потом еще долго переписывались. Хозяйка после Лии так никого больше и не пустила. Писала, что лучше нее постояльцев не найти, и все надеялась, что та вернется. У мамы действительно были мысли насовсем остаться – нравилась ей Сибирь. Часто вспоминала свои ежеутренние километровые забеги на подшефные участки в валенках и шубейке: морозец щиплет, ресницы индевеют, снег скрипит, дым из труб прямым столбом – красота!
Однажды чуть не попала под самолет! Не лайнер, конечно – под кукурузник. Он опылял поля, а она в сосредоточенной задумчивости прогуливалась. Видит краем глаза – летит. Ну, и пусть себе летит. А когда осознала, что находится на его траектории и он уже слишком низко для того, чтобы свернуть, дала деру по прямой – нет чтобы в сторону отскочить. Под конец упала на землю, уши руками зажала, глаза зажмурила!.. Самолет над самой головой пролетел! Летчик, приземлившись, весь раскрасневшийся, взмокший от страха, что задавил девчонку, подбежал, замахнулся на нее и… обнял: «Слава Богу, живая!» Это ж кому рассказать! Ну, под машину угодить – еще куда ни шло, под поезд, даже под катер, но чтобы под самолет! Так что по части оригинальности моей мамуле равных нет.
Однако не суждено ей было остаться в Сибири, жизнь распорядилась иначе. Пришло известие, что Давид Васильевич при смерти. Лиечка все бросила и поспешила в Ленинград. Ее уговаривали не увольняться – перевестись в аспирантуру. Но отец умирает! Ни о чем другом в ту минуту она думать не могла!
После похорон Давида Васильевича дома надолго не задержалась. Поступила в аспирантуру и уехала в Дагестан. Приступила к кандидатской диссертации на тему неполегающих сортов озимой пшеницы. Работала в трех километрах от Дербента на опытно-селекционной станции имени Ахундова. Вместе с другими аспирантами жили коммуной, а мамуля была ее казначеем. Размещались в двух деревянных бараках – в одном девушки, в другом – парни. Быт был самый простой. Кашеварили прямо на улице. Созывая на обед, били палкой в подвешенный рельс: первыми со всей округи бежали кошки, за ними – собаки и последними, нога за ногу, подтягивались аспиранты. Спозаранку уходили в поле, трудились с шести до десяти утра, после чего бегали купаться – благо, Каспийское море рядом, пережидали пик жары, лежа под мокрыми простынями на полу, и возвращались к работе с трех до семи вечера. В Дагестане не поливное земледелие – богара. Полуденное пекло еле-еле выдерживали и посевы, и люди. Пытались охладиться любым способом. Лиечка заработала себе радикулит: разгоряченная вставала под ледяной душ и, в конечном итоге, застудила поясницу. Лежала на полу влежку, не могла пошевелиться. Товарищи ее за ноги, за руки переворачивали. Клали на спину разогретый кирпич или горячий песок – лечили теплом.
Однажды большой компанией решили забраться на гору Джалган, встречать восход. Насмотрелись, как местная молодежь, словно архары, лихо по ней лазает. До горы, казалось, вроде бы рукой подать, совсем рядом. Вышли ранним утром и еле-еле докарабкались к закату.
Читать дальше
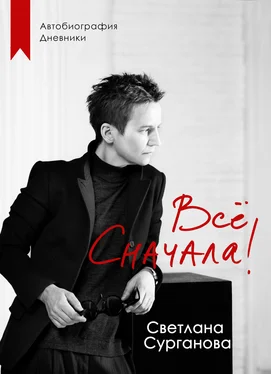
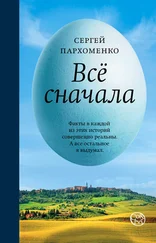
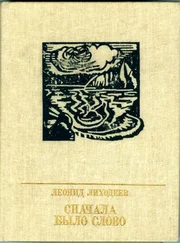




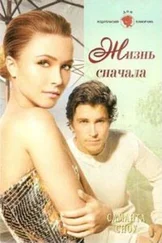
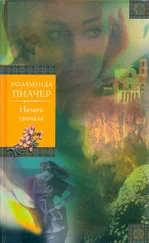
![Светлана Сурганова - Всё сначала! [litres]](/books/397982/svetlana-surganova-vse-snachala-litres-thumb.webp)
![Майк Микаловиц - Сначала заплати себе [Превратите ваш бизнес в машину, производящую деньги]](/books/407620/majk-mikalovic-snachala-zaplati-sebe-prevratite-va-thumb.webp)
