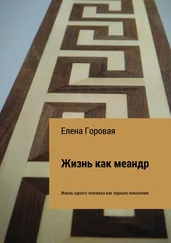Все слова языка – общее достояние, и я не хочу сказать, что каждое слово он произносил в кавычках. Какой-то был у него свой разбор. Так, например, он вполне естественно и без всяких интонационных подмигиваний, хотя и умеренно, матерился. И вообще он любил слова. Я уже писал в очерке про Юза, как они оба меня удивили, когда принялись всерьез обсуждать проект экспедиции за словами: снабдить знакомого аспиранта магнитофоном, чтобы в Москве в пивных записывал разговоры. «Потому что искусство поэзии требует слов…» Другой раз он меня удивил, когда я ему рассказывал, не без иронии, про «Словарь языкового расширения» Солженицына, а он задумчиво сказал, что надо бы купить. Он в 94-м году вставил в стихотворение «Из Альберта Эйнштейна» переданное ему Вайлем выражение из нового молодежного сленга «ломиться на позоре». Словарь у него очень богатый: около двадцати тысяч слов (для сравнения – у Ахматовой чуть больше семи тысяч) [6] См.: Patera Т. A Concordance to the Poetry of Joseph Brodsky. Lewiston, N.Y.: The Edwin Mellen Press, 2003. Vol. I–VI.
. Деловито звонил спрашивать названия растений у Нины, когда сочинял «Эклогу летнюю». Вообще любил знать названия вещей. Мы с Ниной уезжали, навестив его в Саут-Хедли весной 93-го года, и я пожаловался, что машина стала барахлить – мотор глохнет, когда останавливаюсь на красный свет.
Он сказал с видимым удовольствием: «Это карбюратор». Потом посоветовал проверить «коробку скоростей». Потом – сказать механику, чтобы проверил «трансмиссию». Мы уже отъезжали, а он кричал вдогонку: «Карданный вал… Так и скажи!»
Ан нет, сейчас, когда я это вспоминаю, я слышу, что «так и скажи!» было в легких веселых кавычках.
Совсем уж своеобразное, из детских семейных привычек сохранившееся в речевых манерах, было говорить: «Такие наши кошачьи дела…» Царапать тебя ногтями по рукаву пиджака в знак симпатии. Говорить «мяу» вместо «до свиданья» или как выражение сильного чувства, когда был растерян, смущен или взволнован. В тот же приезд мы стали случайно свидетелями телефонного разговора, который очень сильно смутил и взволновал его. Вначале «мяу» звучали не слишком часто, потом, по мере получения все более обескураживающих сведений с другого конца провода, его вопросы и реплики стали все чаще звучать как «Мяу? Ну, мяу…», а под конец драматической беседы слились в отчаянное: «Мяу! Мяу! Мяу!» Так коты вопят редко, только от сильного отчаяния – на приеме у ветеринара или на крыше горящего дома.
Летом 2000 года я делал предварительную разборку архива Бродского. Осиротелый старик, кот Миссисипи прыгал на стол, укладывался на рукопись, пахнущую хозяином, и тут же крепко засыпал. Заснув, он пускал слюнку, но я не решался его согнать, поскольку догадывался, что он имеет больше прав на эти бумаги, чем я. Если будущим исследователям творчества Бродского попадется в черновике расплывшееся пятно, знайте – это кот наплакал.
Бродский разделял распространенное заблуждение, что в кошачьем имени должен быть звук «с» (см. о фонеморазличительных способностях кошек ниже). Отсюда – «Миссисипи». Его ленинградскую кошку звали Оська. После переезда Бродского в Бруклин Миссисипи по семейным обстоятельствам был оставлен в Гринвич-Виллидж у соседки и многолетнего друга Маши Воробьевой. Маша рассказывала, что в ночь смерти Иосифа Миссисипи метался по квартире и плакал. Я в телепатию не верю, но теперь Маша тоже умерла и я рассказываю вместо нее.
Будучи большим кошколюбом, Иосиф серьезных стихов о кошках не писал (так же, как в его зрелом творчестве нет стихов, посвященных любимому городу). Благодаря конкордансу Татьяны Патеры мы знаем, что коты, кошки и котофеи упоминаются в его стихах почте вдвое реже, чем псы и собаки (26:47), хотя к собакам он был довольно равнодушен. Зато он сильно отождествлялся с кошками. Умело, почти автоматически, рисовал толстых котов вместе с подписью, надписывая книжки. Писал:
Я пробудился весь в поту:
мне голос был – «Не всё коту, —
сказал он, – масленица. Будет, —
он заявил, – Великий Пост.
Ужо тебе прищемят хвост».
Такое каждого разбудит.
Это шестистишие – почти полностью коллаж: две поговорки и цитата из Ахматовой («мне голос был»), но в нем очень личное ощущение себя котом. Так же в блаженный момент, запечатленный в «Набережной неисцелимых», он ощутил себя котом, съевшим рыбку и мурлыкающим на солнышке. Но в стихотворении, выстроенном как формула собственной судьбы, «Письмо в оазис», он делает сытым котом своего оппонента, а себя мышью в пустыне, «подспудным грызуном словарного запаса».
Читать дальше