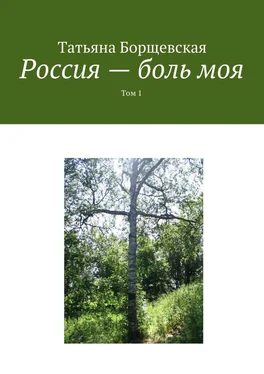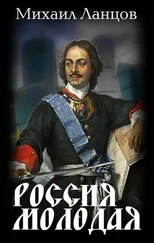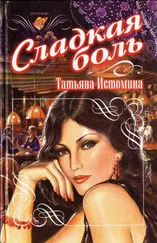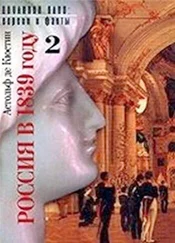В 1937 – 1938 гг. после ареста папы моя мама, поскитавшись в поисках работы более полугода и не получив ее, как жена репрессированного, с ребенком на руках вернулась к родителям. Наверное, эти скитания: Урал, Харьков, Лисичанск – нас спасли. Жена и дочь расстрелянного должны были, по крайней мере, быть отправлены в ссылку. Нас просто потеряли… (Наверное, Сталин, если бы на том свете прочел бы мою книгу, на полях написал бы: «Не добил!» И матерную брань. Не зря добивал…). Так или иначе, мы с мамой снова оказались в Лисичанске, на этот раз – надолго.
Примерно метрах в двухстах от нашего лисичанского дома был детский сад, во дворе которого почти целый день играли дети, и я стала убегать к ним. Когда оттуда пришли воспитатели и сказали: «Или отдайте девочку в сад или не пускайте ее к нам: она играет с нами, а когда мы уходим есть или спать, мы оставляем ее одну», – меня отдали в сад. Детский сад – это светлая полоса моей жизни. Одна из наших воспитательниц прекрасно рисовала. Другая была балериной; из-за травмы ноги она оставила балет. Они устраивали изумительные утренники, с прекрасными танцами и костюмами. Костюмы делались из накрахмаленной крашеной марли, из цветной бумаги. Танцы оттачивались. Танцевали вдохновенно. Однажды самый крупный и красивый наш мальчик, всеобщий любимец, в танце потерял сапог (наверное, сапог был великоват, а танцор горяч), но продолжал танцевать. Об этом потом долго с восторгом и смехом вспоминали.
Я не была сильна в танце. Я хорошо читала стихи.
Заведующая наша была маленькая толстенькая женщина. Когда она входила в зал, мы, оставив свои занятия, бросались к ней, и она превращалась в виноградную гроздь – каждая ягода висела там, где смогла уцепиться: на шее, на руке, на ноге… (Во время оккупации она организовала приют для осиротевших детей и выбивала у немцев для них питание. После освобождения ее должны были судить «за сотрудничество с немцами». Но людям удалось ее отстоять: ведь она спасала детей тех, кто погиб во время войны на фронте и в тылу).
Еще у нас в саду была удивительная личность – наш повар Мария Андреевна. Дома я ничего не ела, давясь, глотала что-то «за дедушку, за бабушку, за папу, за маму», за всю мою родню (и никого нельзя было обидеть), но когда в нашу детсадовскую столовую приходила Мария Андреевна, в белом халате, в белом высоком колпаке, румяная, с ведром подмышкой, с большим половником и разливала нам по тарелкам ненавистную манную кашу, я помню, с каким аппетитом мы все ели, описывая вокруг каши сужающиеся круги: каша всегда была с пылу-с жару.
Однажды под Новый год наши воспитатели сказали нам, что нас ждет сюрприз. После полдника нас повели в «Комнату сказок». Мы вошли в нее с закрытыми глазами. Когда нам разрешили открыть глаза, раздался шумный вздох восторга. На полу комнаты лежал ковер. Стены были завешены полностью «полотнами» картин на сюжеты русских сказок (их рисовала наша Тамара Тимофеевна). С потолка свисали на ниточках гирлянды снежинок из ваты. Их было много-много, и все, казалось, было в мареве снега. Комната освещалась разноцветными фонариками. Впечатление осталось в памяти на всю жизнь.
Сейчас, вглядываясь в глубину тех лет, я думаю об этих людях, об этих бессеребренниках, которые самозабвенно в такие страшные годы, в нашей нищете и бедствиях окружали детей теплом, радостью и красотой.
Начала войны я не помню. У меня не было погожего июньского воскресенья, взорванного страшным событием, расколовшим жизнь всего народа на «до» и «после». У меня не было крутой перемены в жизни: мой отец не ушел на фронт – он был расстрелян раньше. Просто в жизнь стали входить какие-то новые люди и события. Постепенно из этого складывалось детское понимание: война. Полное же понимание происходившего пришло десятилетия спустя
Осенью 1941-го какое-то недолгое время у нас на постое было 30 казаков: они спали покатом в зале. Их голодные лошади стояли во дворе. Они съели под корень старый большой дедушкин сад, деревянное крыльцо и ворота. (После войны у нас был молодой сад – он вырос от старых корней). Голодали лошади, голодали люди, голодали мы. Голод наступил, в сущности, летом 1941-го, и для нас (на Украине, в Донбассе) он продолжался до осени 1947-го. Какое-то заметное облегчение пришло после отмены карточек в декабре 1948-го.
Стояли у нас на квартире двое очень молодых и симпатичных ребят – Шура (радист) и Вася (шофер). Если они ели дома, они всегда приглашали нас: мне запомнилась большая сковорода, вокруг которой все собирались.
Читать дальше