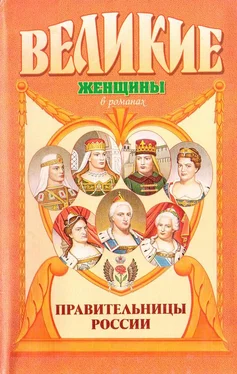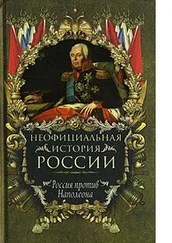Меж тем произошло несколько событий, отсрочивших осуществление идеи, столь занимавшей шестидесятисемилетнюю Екатерину.
Женив Александра, любвеобильная бабушка решила осчастливить браком и недоросля Константина, проводившего досуг в нелепейших забавах: то он ловил крысу и, почти удавив, забивал её, полудохлую, в ствол небольшой пушки, а потом стрелял в кого угодно; то ловил в окрестностях Царского Села молодых баб или девок и приставал к ним, а если не получал желаемого, кусал или щипал их.
Екатерина решила покончить со всем этим, подобрав ему подходящую жену. Одну из первых невест подыскал для Константина граф Андрей Кириллович Разумовский — русский посланник в Вене, с которым мы познакомились в связи со смертью первой жены Павла Петровича. Незадолго перед тем был он посланником в Неаполе и стал там одним из любовников крайне развратной и жестокой королевы Каролины-Марии. Желая отплатить за старую любовь, Разумовский стал сватать одну из дочерей Каролины за Константина, но этому решительно воспрепятствовала Екатерина. Её политические симпатии были не на стороне Бурбонов, к дому которых принадлежала королева Неаполя, а на стороне родственных ей самой немецких владетельных домов.
Десять невест из разных королевских и герцогских семей — преимущественно немецких, — одна за другой приезжали в Петербург, но ни одна из них не удовлетворила вкусов и запросов Екатерины, хотя Константин двух-трёх из них готов был облагодетельствовать. Несостоявшиеся невесты, получив богатые подарки, покидали Северную Пальмиру, пока не появилась одиннадцатая претендентка, на которой Константин и остановил свой выбор — младшая из трёх Саксен-Кобургских принцесс, пятнадцатилетняя Юлиана-Генриэтта-Ульрика, родившаяся 23 сентября 1781 года, — маленькая брюнетка, находчивая и умная, с чувством достоинства и, вместе с тем, с покладистым характером.
24 октября 1795 года Константин сделал предложение матери невесты, а на следующий день состоялась помолвка. 7 ноября герцогиня и две её дочери уехали из Петербурга, буквально осыпанные дождём бриллиантов и получив, кроме того, сто восемьдесят тысяч рублей.
По отъезде матери и сестёр Юлиана была передана под надзор статс-дамы, баронессы Шарлотты Карловны Ливен, и стала жить с сёстрами Константина, обучаясь русскому языку и основам православия. 2 февраля принцесса приняла православие и стала называться великою княгинею Анною Фёдоровной, а на следующий день состоялось её обручение с Константином.
Через две недели состоялось и венчание. Около девяти тысяч солдат и офицеров было выстроено на Дворцовой площади и на прилегающих к ней улицах, услаждая взор жениха и тестя невесты — Павла Петровича. При венчании над головой жениха венец держал Иван Иванович Шувалов, а над невестою — Платон Зубов. Молодым был отведён Мраморный дворец, вокруг которого две недели продолжалось народное гулянье, а по всему городу кипел и разливался праздник.
С появлением новой семьи появился и ещё один двор, а при нём и новые люди, новые партии и новые интриги. В штат нового «молодого двора» вошло шестнадцать придворных во главе с гофмаршалом князем Борисом Голицыным.
И всё же можно утверждать, что кроме двора императрицы, наследника и двух великих князей существовал и пятый двор — светлейшего князя, генерал-аншефа Платона Александровича Зубова.
Один из его биографов писал: «Зубов в последние семь лет царствования Екатерины был повсеместно признанною бездарностью. В течение семи лет он достиг той вершины могущества, на которую Потёмкин, при всей своей удачливости, при всей благосклонности счастья, восходил почти двадцать лет; ордена, чины, титулы и все прочие отличия, пожалованные Зубову Екатериною, были заслужены Суворовым сорокадвухлетнею службою, составившею славу России. Слепое счастие осыпало Зубова теми самыми наградами, за которыми истинные герои века Екатерины ходили в дальнейшие, чужие страны; ему же все отличия доставались тем легче и скорее, чем ближе ко двору, чем безотлучнее он пребывал в столице. Позолотив струны лиры Державина, Зубов был им воспет не менее восторженно, как незадолго перед тем Потёмкин; портреты красавца в воинских доспехах украсили стены дворцовых чертогов наряду с великими полководцами, и Платон Александрович Зубов, по удачному выражению Массона, «почитал себя великим потому только, что стоял во весь рост, в то время, когда всё ползало у его ног».
Читать дальше