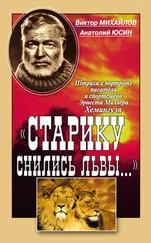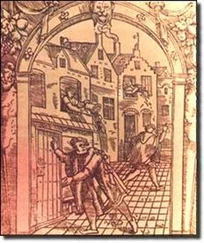В ходе «перестройки» директором института полиграфии стал В.В. Титов. Известный в научных кругах доктор наук, профессор пустился вдогонку за «новым» временем, стараясь заставить всех переключиться на рельсы чистогана. С Любовь Ивановной Сулаковой это не получалось. Он требовал, чтобы зарплата заведующего лабораторией, её зарплата, в несколько раз превышала зарплату сотрудников. Она же руководствовалась «социалистической» справедливостью и себе начисляла зарплату лишь чуть-чуть выше. Он даже ко мне обращался за помощью, просил убедить её в неправильном понимании своего места как заведующей лабораторией, хотя, разойдясь с Белозеровым, я уже не работал в институте. Я был согласен с Титовым, лаборатория была создана Л.И. Сулаковой и успешно функционировала в основном благодаря её знаниям и усилиям. Но Л.И. Сулакова в своём понимании интересов дела и справедливости оказалась несгибаемой. Сотрудники, несмотря на все ухабы перестройки, чувствовали себя за её спиной надёжно, в безопасности, уважали и любили её, не за зарплату, за то, что всегда была с ними Человеком с большой буквы. Титов тоже понял это, хотя и не примирился с этим. Для него, без оглядки вступившего в развивающийся дикий бизнес, она являла собой пример слишком сильной независимой личности, занимающей не принимаемую им позицию. Кстати, его убили, застрелили у входа в подъезд, когда он возвращался домой.
Не удивляйтесь, я сознательно написал «кстати» в продолжение строчки, не с новой строки. Анонимка, приведенная выше, отразила психологию общественной жизни в Советском союзе. А это «кстати» очень точно отражает период его распада, перестройки и наступившее время – «кстати», можно всё что угодно, так между прочим, походя. Ведущие специалисты разрушенного перестройкой института, в их числе и Люба, всерьёз опасались за свою жизнь. До сих пор оставшиеся безымянными участники этого действа, продолжают быть моими современниками, их штрихи могли бы быть в портрете.
Бывало, однако, когда позиция Любы и для меня оказывалась совершенно неприемлемой. С достоинством противостояла кое-кому из своей родни, когда в их разговорах проскальзывали антисемитские настроения, вместе с тем простодушно следовала за изощренными антиизраильскими построениями, искусно закамуфлированными путем подтасовки фактов. Была чувствительна к любым высказываниям, умаляющим достоинство русских, и не могла отказаться от упреков и даже обвинений в адрес «кавказцев» и «всех других», захвативших московские рынки, гостиницы, магазины. Я объяснял, протестовал, негодовал – тщетно. Ей, как и большинству женщин, было присуще ощущение своего, нашего в противопоставлении чужому. Думаю, что такой феномен, мог быть, культурно, а может быть, и эволюционно закреплен в психике хранительниц нашего очага. Мужчинам он не столь обязателен. Чувство своего, которое надо всегда защищать, проявлялось у неё, в первую очередь, в отношении внучки. Стоило мне слегка задеть Нику (так в семье нежно звали Веронику) повелительной интонацией или жестом, как я тут же получал «по носу» сердитым взглядом и словами. Неодинаковость оценок жизненных ситуаций, событий, поступков, прочитанного, увиденного, конечно, присутствовала в нашей жизни, но никогда не приводила даже к малейшему ослаблению ощущения обретенного друг в друге счастья.
Она рассказала мне, как однажды её старая подруга спросила: «А вы часто ругаетесь?» – и, услышав, что никогда, очень удивилась – «Неужели у вас не бывает поводов для ссор?» Люба объяснила ей, что Евгений Давыдович не умеет ругаться и вообще с ним невозможно поссориться. Это, конечно, неверно. Ругаться я умею, но только про себя, и потом, я ругаюсь лишь когда выхожу из себя и только в случае хамства. Ко всему могу относиться спокойно, философски, но хамства не переношу, оно может меня вывести из строя надолго.
Меня поражала её терпимость ко всему, что бы я ни сделал. Купил сдуру что-нибудь совершенно лишнее, принес домой и слышу: «Вот и хорошо, пригодится, пойдет в дело», а не вроде – «Ну зачем ты эту дрянь принёс? Что я с ней буду делать?». Что бы я ни сотворил дома, всё к месту, всё хорошо. И дело не в том, что «умна баба», дело в исключительной уважительности друг к другу. Впрочем, когда я постарел и стал часто забывать что-нибудь сделать, она порой не удерживалась от замечаний, а я сердился. Да, она уставала, и её обижала моя «невнимательность», а я сердился (умею сердиться), дулся на неё, бывало. Но никогда, ни насколечко это не разрушало нашего счастья. В ряде телевизионных передач с упоением рассказывали о «великой» любви «великих» мира сего (И. Тургенев и П. Виардо, Х. Перон и его супруга Э. Перон, С. Дали и его муза и спутница жизни Гала и ещё, и ещё…). Думаю, наша любовь, другая, конечно, но не меньше, и мне приятно считать, что для нас она была единственная и бесконечная.
Читать дальше