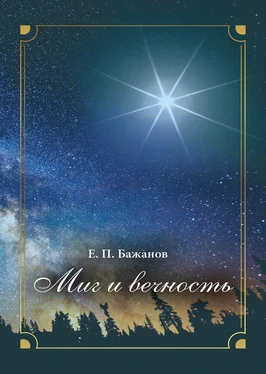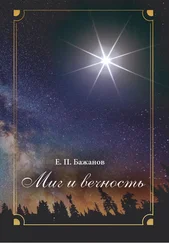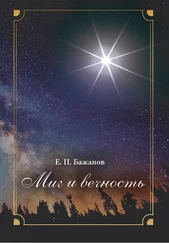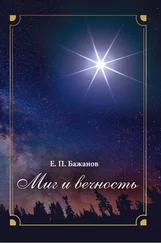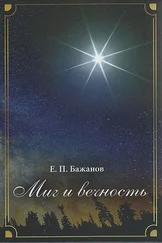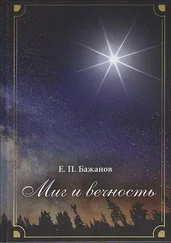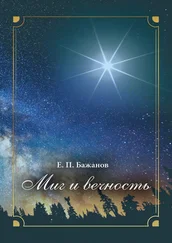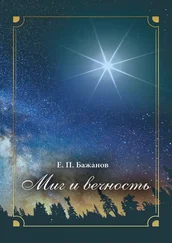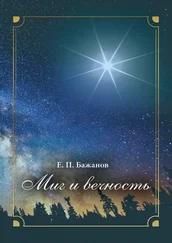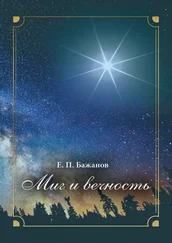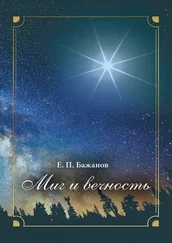1 ...6 7 8 10 11 12 ...32 В 1966–1967 годы маоисты, используя хунвейбинов, обрушились с нападками на КНДР. Ее обвиняли в том, что она выбрала «путь беспринципного компромисса», пытается сидеть между двумя стульями. Хунвейбиновская печать публиковала разного рода измышления о внутреннем положении в КНДР, ее экономических и внутриполитических осложнениях. Масштабы антикорейской кампании приобрели такой размах, что корейская сторона вынуждена была выступить 26 января 1967 года со специальным заявлением [6] См.: Нодон синмун. 1967. 27 янв.
.
В начале 1970-х годов Пекин приступил к нормализации отношений с социалистическими государствами, при этом действительно всестороннее восстановление связей, включая межпартийные, имело место только с КНДР. Широкое развитие получили контакты между двумя странами по военной линии. Оживились взаимная торговля, научные, культурные и спортивные обмены, контакты между общественными организациями. Реакция КНДР на все более откровенный поворот преемников Мао Цзэдуна к сближению и взаимодействию с Западом позволила им выделить эту страну в качестве одного из наиболее перспективных объектов своей политики по отношению к социалистической системе в новых условиях [7] См.: Яковлев А.Г. Указ. соч. С. 124–125.
.
В 1976–1979 годах, когда китайцы уже совершенно беззастенчиво действовали как попутчики Запада, в том числе в деле подавления национально-освободительных движений, корейская печать характеризовала Китай как страну, якобы проводящую «пролетарскую революционную линию» [8] Нодон синмун. 1978. 7 марта.
.
Развивая отношения с КНДР по всем линиям, Пекин, разумеется, был особенно заинтересован во взаимопонимании и широком взаимодействии с корейской стороной по вопросам мировой политики, и прежде всего по вопросам борьбы против «гегемонизма», под которым он подразумевал политику СССР.
Внешняя политика КНДР все больше вступала в противоречие с интересами Советского Союза. КНДР имела близкий с китайцами подход к таким вопросам, как определение характера эпохи и ее движущих сил, проблемы разрядки, войны и мира, разоружения, движения неприсоединения и «третьего мира», коллективной безопасности в Азии и Европе. КНДР приветствовала занятие Китаем Парасельских островов, выступила в унисон с китайцами с осуждением «вмешательства внешних сил» во внутренние дела Африки, заняла негативную позицию по отношению к помощи социалистических стран Анголе и Эфиопии, двусмысленную позицию в отношении кэмп-дэвидской сделки. Пхеньян совместно с Пекином действовал в полпотовской Кампучии, резко осудил Вьетнам за «агрессию» против этой страны, умолчал о нападении КНР на СРВ.
Установление дипломатических отношений между КНР и США и заключение китайско-японского мирного договора были положительно восприняты в Пхеньяне. Корейское руководство, видимо, в тот период питало иллюзии, что в условиях сближения КНР с США и Японией Пекин сможет оказать какое-то содействие в деле нормализации отношений КНДР с этими государствами и урегулировании корейской проблемы.
Вместе с тем дальнейшее развитие стратегического партнерства Пекина с США и Японией в ущерб целям Пхеньяна в корейском вопросе, некоторые двусторонние разногласия, ужесточение линии Китая в экономических связях с КНДР, внутренние процессы в КНР порождали у корейского руководства все большие недовольство и беспокойство.
КНДР была обескуражена заявлениями Дэн Сяопина в Токио и Вашингтоне в начале 1979 года, смысл которых состоял в том, что объединение Кореи не является актуальной задачей, что с ее решением можно подождать и 10, и 100, и 1000 лет. Недовольство корейской стороны усилилось в результате визитов в КНР в 1980 году министра иностранных дел Японии Охиры и министра обороны США Брауна, в ходе которых Пекин углубил взаимопонимание с Вашингтоном и Токио по «корейскому узлу». КНДР по существу оказалась перед единым фронтом США, Китая и Японии в корейском вопросе.
Ким Ир Сен имел в виду Китай, когда заявил на VI съезде ТПК, что социалистические страны «не должны идти на беспринципный компромисс с империализмом, не должны жертвовать интересами других стран ради собственной выгоды» (эта часть доклада в китайской печати была опущена).
В Пхеньяне не могли спокойно относиться к тем процессам в Китае, которые развенчивали культ личности Мао, вели к отказу от многих прежних догм и постулатов, близких руководству КНДР. Китайский прагматизм опрокидывал многие «теоретические» положения чучхе, наносил удар по всей идейно-политической платформе корейского руководства.
Читать дальше