Только в середине 1943-го и у нас расселилась воинская часть. В декабре мама зазвала ко мне немецкого доктора. Я лежал почти поперёк лавки: щупленький, весь покрытый гнойниками и струпьями. Немец поставил диагноз – сыпной тиф, – а потом с сожалением произнёс по-русски: плохо, матка, совсем плохо, не выживет… Уже уходя, добавил: если съесть вдруг чего захочет – из-под земли достань! Возле землянки и в этой части улицы выставили плакаты «Тиф», написанные чёрными готическими буквами; немцы обходили опасные места стороной. Нет худа без добра: здесь спрятали и таким образом спасли от отправки на выкачивание крови для немецких солдат моего девятилетнего двоюродного брата Мишу Чернецова… Обстоятельные немцы тщательно продумали оккупационную инфраструктуру, с тем чтобы извлечь максимальную пользу для рейха.
Пересыльный лагерь для невольных доноров расположили рядом, в том же Красном Береге. Недавно на этом месте был сооружён мемориал, при посещении которого невозможно сдержать слёз.
Я за эту войну чем только не болел… Сперва тяжёлое воспаление лёгких, отрыгнувшееся начальной стадией туберкулёза, потом скарлатина и сыпной тиф в его самой тяжёлой форме, а под занавес – ещё и малярия. Уже в семнадцать лет мама со слезами на глазах призналась мне, что дальняя родственница Тэкля, единственная портниха в деревне, сшила для меня похоронную рубашку. Никто не верил, что смерть меня отпустит. Но, видимо, все опасные недуги, столкнувшись в маленьком тельце, разодрались между собой и погибли в этой самоубийственной схватке – я выжил… Рассказывают, мне захотелось сала, и мама зимой 1944 года, когда немцы всё и у всех съели, где-то раздобыла кусочек. С тех пор она утвердилась во мнении, что сало меня и спасло. Я ей верил, пока не осознал: раз аппетит появился – смерть отступилась ещё до сала.
Уже отчётливо помню маму в сорок четвёртом. Мы с братом скукожились на дне небольшого окопчика, наспех вырытого в созревающей ржи, а мама стоит над нами на четвереньках, прикрывая своим телом. Вокруг свистят пули, рвутся снаряды. Сколько она так простояла – не знаю, да и она сама не помнила: может, полдня, а может, и больше.
* * *
Мама моя была не по-деревенски красивой – просто барышней и умницей, хотя окончила лишь четыре класса церковно-приходской школы. В колхозе, который образовался в конце 1929 года, числилась ударницей. В награду вызвали в райцентр, привезли на небольшой аэродром и прокатили над деревней на аэроплане: за полётом, задрав головы к небу, следила вся деревня. Случилось это в 1931 году. И до того у неё отбоя от женихов не было, но когда «спустилась снеба на землю», ухажёры как с цепи сорвались. А она ни к одному не приткнулась, никто ей не нравился. Говорила: мне, дескать, и незамужней хорошо. Любимый брат Алексей баловал Настю, младшую из трёх сестёр, и на свою учительскую зарплату чего только ей не дарил: и блузки шёлковые, и юбку до пола бархатную купил, а уж туфли – хоть каждый день меняй. Одевал как королевишну. И возил, куда хотела – не хотела: и в Жлобин, и в Бобруйск, и даже Гомель показал. Мать, моя бабушка Марья Ильинишна, журила: шла бы уже хоть за кого-то, а то, гляди, в девках останешься.
Но вот осенью появился в деревне Лукаш, мой будущий отец, отправившийся куда-то под Москву то ли на заработки, то ли на учёбу. Был он из богатой семьи – дом в пять окон, но в двадцать девятом, по воспоминаниям пожилых односельчан, моего деда Романа «раскулачили» и отправили куда-то в Сибирь. Так и не вернулся – то ли пропал, то ли женился где-то.
Но сыновей дед успел выучить. Только старший, Максим, крестьянствовал в своей деревне, Алексей выучился на учителя, Лукаш поехал куда-то на заработки – в своём районе сыну зажиточного селянина ходу не было. Младший, Николай, работал на маслобойне в Поболово, заочно учился и тоже собирался стать учителем младших классов.
Другие уезжали и – как в воду канули, а Лукаш вернулся. Солидный, в костюме, при галстуке. Пришёл, через Варку, старшую уже замужнюю сестру, вызвал из дому в палисадник, усадил на призбу, закрыл калитку на щеколду. Сам сел рядом. И сердце ёкнуло:
– Чаго калитку запираешь? – спросила, чтобы прийти в себя. – Боишься, штоб не сбегла?
Хотя ни любви, ни даже взглядов-переглядов у неё с ним до отъезда из деревни не было, но тут она почему-то испугалась, почувствовав – доли девичьей конец настал. Так оно и вышло: обнял, тесно прижал к себе и поцеловал в неподдающиеся губы. И пахло от него по-городскому, чем-то неизведанным, притягательным. «И где такой диколон нашёл, что от него голова кружится…» – подумалось ей…
Читать дальше






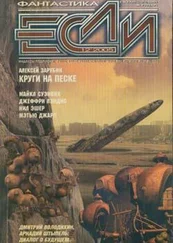
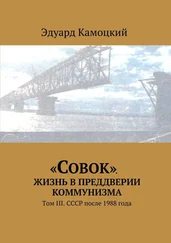

![Светлана Замлелова - Эдуард Стрельцов. Воля к жизни [litres]](/books/397652/svetlana-zamlelova-eduard-strelcov-volya-k-zhizni-thumb.webp)


